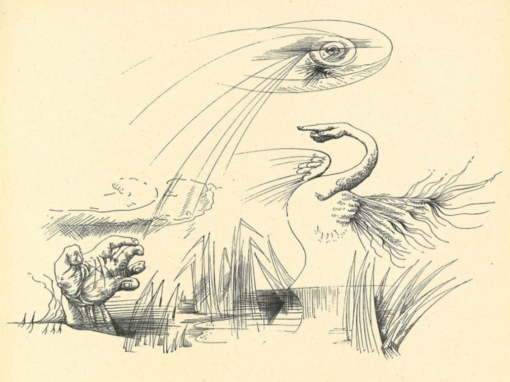С 2008 года1 российское современное искусство существует в условиях постиндустриальной экономики. Мы ее критиковали, рассуждали о ее связи с современным русским капитализмом, упивались своей прекарностью. Постиндустриальная экономика меняла и культуру: появлялись школы современного искусства, художественные самоорганизации, архивы современного искусства и новые художественные институции.
В 2022 году не стало главного условия этой постиндустриальной экономики — относительной свободы. Не только многие российские художники отказались от высказываний, иностранные профессионалы перестали с нами сотрудничать, но и в целом изменилось лицо любого интеллектуального, связанного с глобальной экономикой, производства, начиная с дизайна и заканчивая разработкой сервисов.
По щелчку пальцев перестало существовать нечто, что никогда особо не мешало, находясь в параллельной реальности. Культурные учреждения никогда не ставили вопрос о том, почему власть не меняется вот уже 22 года. Но поскольку после заката СССР не было никакой государственной идеологии, то всегда существовал запрос на знание, позволяющее концептуализировать и контекстуализировать выставляемое искусство, а также мировые события — игнорируя при этом события в России.
Музей был пространством, где после поражения протестов на Болотной площади 2012 года можно было спрятаться от реальной политики и изобрести свою воображаемую: экологическую, неомарксистскую, акселерационистскую или деколониальную. Музей хоть и не ставил вопрос о власти, но при этом всегда жаждал производить некое альтернативное — и, возможно, противостоящее хотя бы в рамках гетто современного искусства — знание. Музей, словно телевизор, предложил зрелище множественных субъектностей — ток-шоу говорящих голов, парламент произведений искусства и аполитичность в качестве консенсуса, не выходящего за стены гетто.

Современное искусство взяло на себя эту функцию — быть площадкой для разных голосов, презентации собственных исследований, развития знаний. Местом, где альтернативные знания чувствовали себя лучше всего, была параллельная программа выставок. Исследовательские практики начали проникать в художественные, а художественные — в исследовательские. Музей не только от случаю к случаю давал «исследователям» площадку, но и, безусловно, сам привлекал исследователей в качестве фрилансеров — каждая выставка всегда сопровождалась множеством проектов-сателлитов: изданий сборников, ридингов, образовательных программ, лекций и т. д. Это позволяло сохранять и пополнять гуманитарное знание для будущих общественных трансформаций. Но будущего не случилось.
Создавали знание в музее «многие»2 — художники-теоретики, художественные теоретики, художественные критики и нищие независимые философы. Назовем всех их «исследователи-в-искусстве» и дальше по тексту будем следовать этому обозначению. В учреждениях культуры они создавали связи между объектом своих исследований и искусством, но чаще именно с тем, что в данным момент выставлялось в музее. Так, например, помимо самой выставки «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена», в которой участвовало порядка 35 художников и коллективов, также проходила и череда мероприятий, связанных с ней. Так, коллектив «Кафе-мороженое», помимо участия в самой выставке, провел серию дискуссий, посвященных трудовой этике и ресурсной политике3. А группа «Технопоэзия» устроила концерт4 по мотивам собственного «видеоводевиля».
В другой выставке музея «Гараж» «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», посвященной важным, но очень далеким от реальной политики вопросам экологии, было представлено порядка 50-ти художников и коллективов. Но на параллельной — исследовательской и публичной — программе музей делал не меньший акцент: «Цель всего проекта, — в том, чтобы показать широкий спектр позиций, в которых художники, кураторы и исследователи совершили череду личных выборов в пользу ответственного подхода к будущему»5. Слово «исследователи» идет третьим, после, соответственно, художников и кураторов. Что достаточно симптоматично, потому что именно исследователи являются самыми прекарными из них — они пишут тексты (знания или идеи), а не создают произведения искусства или организуют выставки.

В параллельную программу выставки «Грядущий мир» также вошла, например, летняя школа Бена Вударда «Пространство и письмо: исследование антропоцена». Помимо этого, философ был создателем и части выставки — таймлайна. А Ипполит Маркелов, Катя Никитина и Никита Сазонов создали исследовательскую программу «После петрополитики: политика и экономика грядущего мира», в которой пригласили поучаствовать художников, философов, антропологов и др. Результатом стал ряд художественно-исследовательских наработок, в которых участники воображали мир без нефти. Кроме этого, в рамках «Грядущего мира» свои лекции читали Ти Джей Демос и Тимоти Мортон.
Другой пример увеличивающегося значения параллельной программы — выставка «Генеральная репетиция» фонда V‑A-C. Кураторы обратились к новому приему, когда выставка постоянно пересобирается за счет взаимосвязи с приглашенными исследователями. Все это позволило создать совершенно новую выставочную ситуацию, в которой, казалось бы, практически ничего не изменилось, кроме наличия или отсутствия некоторых экспонатов, — но само искусство помещалось каждый раз в новый идеологический контекст.

Если рассматривать эту ситуацию с политэкономической точки зрения, то сама форма социальных отношений не изменилась — изменилось их содержание. В первом акте роль исследователя занял «Театр Взаимных Действий» — их целью было приспособить пьесу Чехова «Чайка» к первой конфигурации выставочных объектов. Во втором философ Армен Аванесян, немного изменив экспозицию, обратился к спекулятивной философии. Третий акт уже был поставлен по сценарию поэта и прозаика Марии Степановой.
И если ситуация, когда выставка влияет на публичную программу, нам привычна, то в «Генеральной репетиции» все было наоборот: приглашенные исследователи в каждом акте меняли выставку, создавали для нее новую маску. Хотя мы и видим здесь усиление роли исследователя, она так или иначе связана с публичной программой, образовательными мероприятиями, развлекательными событиями, модификациями зрительского опыта и KPI повторных визитов. Исследователь здесь — это метрдотель, зазывающий на второй круг по выставке.
Из всего написанного выше следует, что «исследователь-в-искусстве» — фрилансер, выполняющий задачи по наполнению музеев не искусством, но знанием. Хито Штейерль в своей статье Freedom from Anything: Freelancers and Mercenaries пишет: «Слово “фрилансер” происходит из средневекового обозначения наемного солдата — а именно free lance или “свободное копье”. Этот солдат не был приставлен ни к какому конкретному правителю или государству и мог быть нанят для специфических задач»6. Сегодня этот «наемник-в-искусстве» находится в интересных условиях: «Приватизация войны — симптом ослабления национальных государств, знак утраты контроля над военными силами […]. Что ставит в свою очередь так называемую “монополию на насилие” и подрывает государственный суверенитет, заменяя его тем, что можно назвать “суверенитетом по субподряду”»7.

Размывание монополии на насилие знание и «суверенитет по субподряду» превращает наемника — и не важно какой войны: горячей, холодной или идеологической — в функцию капитала. Фриланс, в свою очередь, наделяет исследователя определенной степенью свободы: «Новый наемник, который должен быть свободен от всего, больше не является субъектом, но объектом — маской. Это объект коммерческий, лицензированный большими корпорациями, но в то же время и украденный пиратами»8. Быть «маской» — это то, что происходит и с «исследователями-в-искусстве».
Известная под псевдонимом Анна Энгельхардт художница раньше выступала в виртуальной маске и с голосовым фильтром, сохраняя тем самым миф об анонимности. Анонимность вряд ли когда-то была реальностью — в контракты с «ГЭС‑2»9 и с «Гаражом» она вписывала свои реальные паспортные данные, а значит, ни о какой анонимности речи и не шло. Маска позволяла ей уходить не от «надзора», а от репутационных потерь сотрудничества с российскими институциями, которые она считает колониалистскими и империалистическими. Сегодняя Анна Энгельхардт деанонимизировала себя10, сняла маску, ее роль и амплуа стали реальными, а сотрудничество с российскими институциями — бессмысленным.
В целом эта метафора с маской описывает любого исследователя в России до 2022 года. Музеи приглашали не людей, но аватары самих дискурсов. И на очередной панельной дискуссии, презентации книги или выставке они, заботливо высаженные работниками музея, рассказывали об очередной теоретической фикции, об экологии или деколонизации. «Наемный исследователь» создавал знание, а также дополнял выставки и фестивали им на заказ. Но что происходит со знанием, когда его заказывают? А с исследователем?
Маурицио Лаццарато пишет, что цель компаний и учреждений культуры в постиндустриальной экономике «состоит уже не в том, чтобы изымать (как в обществах суверенитета) или комбинировать и повышать мощь (как в обществах дисциплинарных), а в создании миров. […] Переворачивая марксово определение, можно сказать: капитализм является не способом производства, но производством способов. Капитализм становится маньеризмом. Выражение и создание миров и включенных в них субъективностей, созидание и реализация чувственного (желаний, убеждений, интеллектуальных способностей) предшествуют экономическому производству. Экономическая война, разыгравшаяся на планетарном уровне, представляет собой во многих отношениях войну эстетическую»11. Музей, таким образом, представляет выставку как множество интеллектуальных миров или апофеоз этой эстетической войны. Экологическая повестка в выставке «Грядущий мир» — это не только сама выставка, но и экскурсии по парку с исследователями, мастерская письма с Беном Вудардом, теоретические воркшопы, а еще экологичная выставочная застройка и сумки из вторсырья. Знание, искусство, этика сообщества — все становится отдельными и далекими от практики мирами и эстетикой жизни постиндустриализма. Этика становится стилем жизни, доступным, правда, только в маленьком гетто московского современного искусства в центре Парка Горького. Можно сказать, что если правительство Российской Федерации запретило12 оценивать самое себя, то все остальные оценки были доступны к свободному обращению.
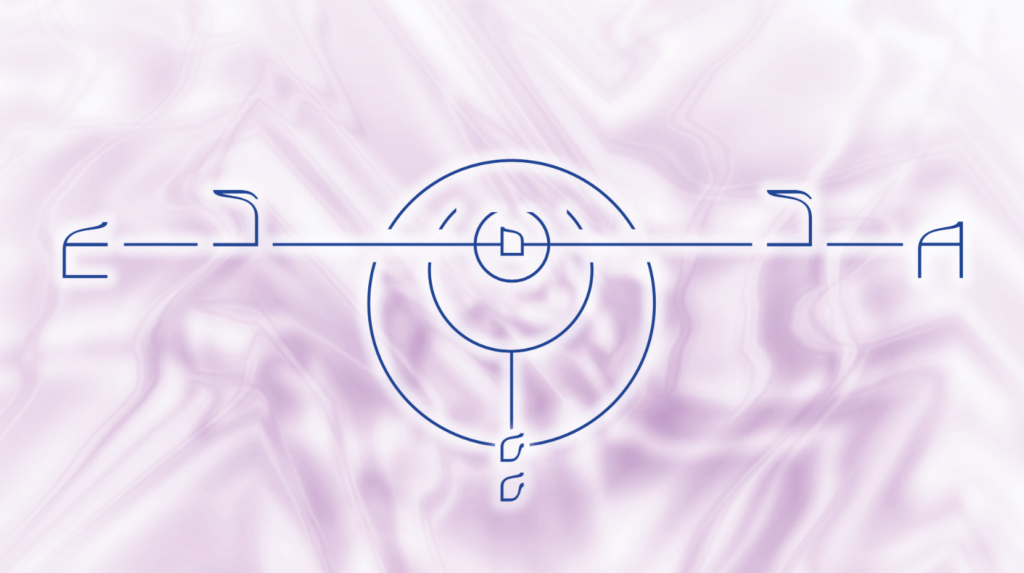
И музеи этим пользовались — при условии, что они не ставили один-единственный вопрос: «Почему в России несменяемо правит один и тот же человек вот уже двадцать с лишним лет?» Миры, которые создавались, были временными, в них можно было жить, только пока существует мода, либо пока длится сезон. Вершиной этой идеологии миростроительства стала модель работы дома культуры «ГЭС‑2», работа которого делится на тематические сезоны. Так, например, первый сезон после открытия назывался «„Санта-Барбара“. Как не поддаться колонизации?» и тематически обращался к проблеме взаимоотношения глобального и локального. После окончания очередного сезона эту, да и любую другую идею — деколониальность, труд, темные онтологии, демократическое устройство выставки или экологию — можно отправить в утиль.
Событие вокруг выставки — лекция, воркшоп или перформанс — становились лишь формой промоушена и рекламы того мира, который предлагает в актуальном сезоне музей. «Рекламный симулякр события — это встреча и даже встреча двойная: порой он встречает душу, порой — тело. […] Реклама — лишь возможный мир (даже если он нормализован, отформатирован), обертка, в которую завернуты виртуальности. Разворачивание находящегося внутри, снятие обертки может иметь разные последствия, потому что все монады являются автономными, независимыми и виртуальными», — пишет Лаццарато13. Исследователи, к которым обращаются за созданиям художественного события или же которые сами обратились по опен-коллу, должны соответствовать целям и текущим задачам художественной институции, должны «принадлежать ей, слиться с ее миром, желаниями и убеждениями»14.
Когда мы думаем о том, какое место занимает «исследователь» в художественном учреждении, то нам кажется, что он как будто бы независим, как будто знание, которое он создает, является только его знанием. Но если посмотреть на то, как в реальности работает художественное учреждение, то окажется, что исследователь-фрилансер — самое бесправное из существ в музее, полностью скованное по рукам и ногам заказом — «коммишеном». Об опыте подобного сотрудничества, в которое примешивается государственная цензура, рассказывала Ольга Тараканова15.

Лаццарато по этому поводу подмечает одну интересную деталь: «По отношению к этим стандартным мирам наша “свобода” реализуется исключительно как выбор между возможностями, которые были задуманы и выработаны другими. Мы не имеем права участвовать в построении миров, в разработке проблем и изобретении решений, разве что лишь внутри уже установленных альтернатив. Определение этих альтернатив — дело специалистов (политиков, экономистов, ученых, городских властей и т. д.) или «авторов» (деятелей искусства, литераторов и т. д.)»16. Таким образом, знания, создаваемые внутри музея, копируют иерархическое устройство мира, в том числе само амбивалентное положение «исследователя-в-искусстве», одновременно привилегированное и абсолютно уязвимое. Площадки создают этих людей, включают их в свои миры, иногда селят в гостиницы, периодически кормят, приглашают на вечеринки — но в конечном счете за любой прокол отменяют.
Музей является доминантой над исследователем в постиндустриальной экономике. «Субъект — это поле битвы. Нередко доиндивидуальные аспекты ставят под вопрос индивидуацию»17, — пишет Паоло Вирно. «Доиндивидуальные аспекты» — это и есть производство, это и есть учреждения культуры, отношения контрагентов внутри и вокруг этих институций. Более критически эту ситуацию описывает Борис Гройс: «Столкновение позиций, каждая из которых последовательно и когерентно представляет те или иные частные, односторонние, партикулярные интересы, в конечном итоге, приводит к компромиссу. Этот компромисс необходим — только он может установить мир между спорящими партиями и сохранить целостность и единство общества. В сущности, компромисс имеет форму парадокса, так как он одновременно признает и подтверждает два отрицающих друг друга высказывания. […] Софисты, приводившие аргументы в пользу обеих сторон, также получают финансовое вознаграждение»18.
Вокруг музея возникает агора вольнодумцев или, точнее, прекарных исследователей, мысль которых не так вольна в постиндустриальной экономике, поскольку зависит от заказа или цензурного консенсуса. «Исследователь-в-искусстве» не уточняет истину, но продает идеи, нарративы и анекдоты. Что от него требуется? Паоло Вирно ответит: «Определенное число готовых фраз, […] умение коммуникативно и неформально действовать, требуется гибкость, с тем чтобы он имел возможность реагировать на различные события (с немалой дозой оппортунизма, заметим). […] Эта способность, или же общая потенция к артикуляции любого вида говорения, получает эмпирическую выразительность именно в болтовне, переведенной в язык информатики. В самом деле, там не столько важно “что сказано”, сколько простая и чистая “способность сказать”»19.
Здесь я хотел бы сослаться на очень примечательный литературный памятник «исследователю-в-искусстве» — книгу «Майамификация» Армена Аванесяна, в шутку и за глаза называвшегося в фонде V‑A-C «придворным философом». Сама книга вторична и состоит из разрозненных заметок на разные темы, опубликованных ранее в журналах и связанных с уже прочитанными в университетах и художественных учреждениях докладами. При ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти его мысли можно прочесть и раньше — например, в беседах с Сухаилом Маликом20. Но интересна книга не философским содержанием, а тем, что все рассуждения автора вписаны в контекст его праздного быта — быта человека, который зарабатывает деньги, теоретизируя по запросу институции. А еще тем, как его собственные исследования определяются разными возможностями: отношениями с издательствами, олигархическими художественными институциями — или событиями из его собственной жизни, такими как поход на пляж или веселое и праздное времяпрепровождение в компании богатых людей. Начинает он свою книгу с одного любопытного наблюдения о своем праздном образе жизни: «Даже если островки энтузиазма иногда появлялись во время письма. На это повлияло и все остальное, происходящее вокруг: солнечные ванны, привыкание твоего тела к плаванию и тропическим температурам, как идут дела с Мари (которая здесь почти не упоминается, как будто ваше существование вместе, днем и ночью, и ваши разговоры не составляют основную часть вашего временного пребывания в Майами-Бич), а также сплошь хорошие новости со старого континента. Запросы на переводы из Франции и Испании, интерес к университетской книге. […] Лучше просто продолжать писать»21. Это «лучше просто продолжать писать» в контексте «солнечных ванн» звучит так же ясно, как гербертовское spice must flow.

Сама «Майамификация» — это травелог, записки путешественника, составленные поденно, предельно эксгибиционистские. Армен Аванесян описывает, как он идет в бассейн, говорит о пропуске в лакшери-жизнь, о своих симпатиях к дорогой одежде. Ничто человеческое ему не чуждо. Напоминает он при этом, скорее, одного из героев книги «Хищные вещи века» Стругацких — доктора Опира, философствующего о достигнутом изобилии.
Собственно, в этом и заключается суть существования «исследователя-в-искусстве» — заниматься поэтизированием все усложняющегося изобилия постиндустриальной экономики. И жизнь Аванесяна действительно насыщена не только интеллектуально, но и светски: «Никаких возражений против красоты. […] Ты вспоминаешь, как Адорно довольно сомнительным образом выступал в защиту своей слабости к аристократии. А еще лучшие эпизоды из private clubs во время твоего пребывания в Лондоне. Когда за разными дверьми, фильтрами, выборами бывают ночи, во время которых возникает отдаленное понимание того, на что может быть похожа жизнь вне материального обладания вещами и страха, вне имущества и денег. Когда чужое шампанское — это и твое шампанское, когда твои наркотики — это и чужие наркотики, а какой-нибудь богатый коллекционер наверняка оплатит счет. Тогда все остальное, внешнее, почти забыто»22.
«Майамификация» — это способ саморазоблачения «исследователя-в-искусстве», книга предельно неоригинальная. Аванесян, например, добавляет в нее свое интервью, экономя тем самым свои ресурсы. Переиспользование сказанного ранее и не может быть сведено лишь к литературному приему или самоцитированию — это суть письма «исследователя-в-искусстве». Недаром Аванесян философствует о деривативах, которые конструируют будущее, ведь именно знание о будущем, его моделирование, попытка предсказать его делают интеллектуала востребованным. Именно в угадывании интересов культурных институтов и состоит главная сила, поскольку вопрос об академической карьере вторичен. И вся книга пропитана этим чувством гешефта — Аванесян пишет ее для своего редактора, но каждая из глав нужна ему для параллельных целей, лекций, обсуждений, интервью, возможных проектов и рекламы новых идей. «Майамификация» использована и переиспользована, представляет собой комбинацию, игру и шоукейс интеллектуальных способностей. Да и сам Аванесян это понимает: «СВОБОДА. Стать индикативным как письменный проект, как проекция всего письма. Этот фантазм также является движущей силой твоего спекулятивно-поэтического письма»23. Ну и заканчивается книга практически пресс-релизом Бюро культурных стратегий Армена Аванесяна.

Одновременно с пандемией COVID-19, когда все выставочные площадки закрывались на карантин, началась и эпидемия зумов, цифровых проектов, исследовательских хабов и т. д. Роль «исследователей-в-искусстве» усилилась, это был их звездный час. Для современных искусства и философии это было качественно новое событие, изменившее нашу жизнь. Именно пандемия во многом показала, что именно текст — а не искусство — становится одним из важнейших приоритетов для учреждений культуры. Текст служит концептуальным обоснованием, эскизом — и в то же время итогом реакции на то, как функционируют художественные институции сегодня. Интересным примером здесь может послужить новый формат, возникший именно в эпоху ковида. В 2020 школа The New Center сделала зум-сессию Sheltering Places, где исследователи и художники могли обсуждать вопросы политики и искусства постковидного мира.
Начиная с авангардизма, искусство пыталось обращаться к философии и науке, пробовало теоретизировать не только работу конкретного художника, но и развитие всего искусства. Такая теоретизация даже почти стала наукой: Клемент Гринберг и художественные теоретики вокруг журнала October видели историю искусства практически как стройную и развивающуюся систему, которую в том числе можно было бы описать и в виде научной теории. Но вся история искусства говорит нам скорее об обратном. Теория искусства, построенная на универсальном и «научном» знании, обращается к практике субъективной оценки лучших образцов. И так часто выходило, что эти «лучшие образцы» либо были созданы друзьями критиков, либо являлись примером близости взглядов (как в случае взаимоотношений между Бенджамином Бухло, Герхардом Рихтером, Хансом Хааке и Алланом Секулой), либо хорошо подходили для стройной теоретической модели — как в случае Климента Гринберга, которому хотелось верить, что искусство будет развиваться именно подобным образом (в сторону абстракции, и никак иначе).
Печально сегодня выглядит фигура художника-теоретика — это живой оксюморон. Из своего искусства она пытается вывести знание универсальное, тем самым легитимизирует то, что создает, делая его лучше и общезначимее. Художник вынужден стать исследователем, чтобы выражать хоть толику гегелевской искры абсолютного духа. Среди российских художников можно вспомнить об Анатолии Осмоловском или Дмитрии Гутове, для которых обращение к теоретическому письму связано в первую очередь с объяснением развития собственного искусства — отказом от акционизма и поворотом к постмодернистскому пластицизму в первом случае или же переходом от концептуалистской иронии над соцреализмом Лифшица к его полной апологетике.
Но что ждет в итоге художника-теоретика? Гройс в «Коммунистическом постскриптуме» рассуждает об их судьбе: «Протагонисты проекта умирают, новому поколению он не интересен и проект выходит из моды. Проекты не реализуются, а просто “устаревают”»24. Не устаревает только сама способность к «болтовне» — именно поэтому судьба художника-теоретика становится уделом всех, а значит и никого в отдельности.
«Исследователи-в-искусстве» болтливы, но они не художники, их основной фронт работы связан с литературной практикой, написанием текстов. Текст становится не только результатом исследования, но и промежуточным продуктом художественного процесса. Этот общительный софист-наемник, о котором пишут Штейерль, Вирно и Гройс, превращает собственную способность к речи в искусство. Но что получает от такого сотрудничества музей? Маурицио Лаццаратто в своем тексте «Предприятие и неомонадология» пишет, что «фирма создает не объект (товар), но мир, в котором этот объект существует»25. То есть музей создает не панельные дискуссии и презентации книг в рамках своей параллельной программы, но миры, в которых выставляемое искусство существует. И в контексте российской политической системы все эти миры, которые создавали «исследователи-в-искусстве», предстают формой эскапизма, чистой фикцией, потому политический режим уже запретил прямой политический сюжет, создав гетто теоретических фикций. А в 2022 году запретил любые формы миротворчества как напрямую, через цензуру, так и косвенно — по сути, уничтожив связь российской постиндустриальной экономики с внешним миром.
Эта структура интеллектуального гетто имеет под собой и экономические основания. Музей поддерживает жизнь теоретика, дает ему немного хлеба и считанные минуты славы. Паоло Вирно подчеркивает эту особенность биополитики постиндустриального труда в следующем пассаже: «Биополитика — это только эффект, отзвук или, опять же, артикуляция первичного, исторического и одновременно философского факта, состоящего в купле-продаже силы (potenza) в качестве потенции. Биополитика там, где выходит на первый план в непосредственном опыте то, что относится к потенциальному измерению человеческого существования: не само сказанное слово, но способность говорить как таковая, не завершенный в реальности труд, но общая способность производить»26.
Potenzia, которую пестует музей, — это именно способность создавать исследование, знание и текст. Смотреть нужно не только на произведения искусства — вы сделали выставку, но за ней идет целый ворох мероприятий, голосящих и крикливых исследователей, в лабораторных условиях отстаивающих никому не нужные точки зрения.

В целом для художественного мира, где твою заявку могли с легкостью не одобрить, исследователь всегда мог переделать проект во что-то новое или для другой институции. Так проект исследования в свою очередь мог бы стать диаграммой, начиткой для видео или перформативной лекцией. Исследователь существует в матрице пластичных отношений с публикой, профессионалами и учреждениями культуры, вынужденный каждый раз адаптировать некоторый текст под те или иные задачи, свои или чужие. Форма не важна, заказчик не важен, событие и контекст тоже не важны. Или, как пишет Паоло Вирно: «Оппортунист — это тот, кто противостоит течению взаимоисключающих возможностей, находясь в ситуации готовности по отношению к наибольшему их числу, подчиняясь ближайшей и затем следуя от одной к другой. […] Речь идет об обостренной чувствительности к меняющимся chances, об умении различать калейдоскопически мелькающие возможности и создавать тесные отношения с возможным как таковым. В мире постфордистского производства оппортунизм приобретает несомненное техническое значение. […] В конце концов, что такое оппортунизм, если не один из политических талантов?»27.
Исследователь, который вписывает себя в художественное производство, вынужден отвечать на его зов, постоянно трансформируя свою практику. Но здесь мы опять возвращаемся в еще один конфликт, что не только теория противостоит искусству, которое пытается произвести, но и стремительно скатывающееся в фикшен его собственное исследование становится лишь формой художественной практики, но не научного знания.
«Кооператив распределенного сознания» (Анна Энгельхардт и Саша Шестакова) специализируется на постколониальных исследованиях и исследованиях информационной войны. И хотя они также курируют выставки, читают лекции28, снимают фильмы и делают digital-based искусство, но в центре их практики всегда остается текст. Версткой, монтажом, программированием сайтов, созданием иллюстраций занимаются другие люди.
И если «Кооператив распределенного сознания» в «Сценах из русской культуры» для «ГЭС‑2» проводит ридинг по эссе Алена Бадью «Давно уже больны мы. Размышление об убийствах 13 ноября» и обращается к деколониальной проблематике, то уже в проекте «Голубые галочки», сделанном для Garage.Digital, Анна Энгельхардт критикует цифровой платформенный капитализм. Дальше — больше: «Кооператив» пишет статьи об альтернативных репродуктивных технологиях, о палестинском сопротивлении, о расистском капиталоцене, о войнах, о советских художниках-кинетистах29. Любая из этих тем может быть трансформирована в любой из проектов.

Другой пример исследователя-многостаночника — Андрей Шенталь. Он занимается искусством, курирует, критикует, проводит философские клубы и читает лекции. Его масштаб простирается от курирования Cosmoscow30, философского клуба на Винзаводе, до редактирования газеты EastEast, существовавшей на деньги петрократического Катара, или создания художественных произведений: видеоинсталляции Venera‑9 (2019–2022), посвященной освоению космоса, квазиэротических фотосессий The world tends to become homogenous (2019–2021) и Moscow — Beijing (2019–2021), двуканальной видеоинсталяции Descent into the fungal31 (2016–2017), поверхностного оммажа Бену Вударду о грибном коммунизме. Нет ни одной темы, на которую не мог бы высказаться исследователь-в-искусстве.
Знание, таким образом, существует в промежутке между профессиональными способностями отдельного исследователя и запросом музея. И нельзя сказать, что такое знание обладает автономией, скорее, его следует сравнивать с чем-то средним между религией, партийной идеологией и корпоративным тренингом. Исследователь существует в качестве утрачивающей субъективность машины по производству текстов, не делающей разницы между научной теорией и произведением искусства. В холистическом мире постмодерна все связано со всем — и абсолютно неважно, что перед вами: искусство, теория или фейк.
Можно ли сегодня, как и прежде, продавать свои способности исследователя в России? Нет, наверное, нет. Надо признать, что эта эпоха ушла. И нет ничего страшного в том, как существует постиндустриальная экономика, в исследователях, отказавшихся в пользу творчества от академической строгости. Проблема здесь заключается в другом — что учреждения культуры в России из своей внутренней потребности в параллельной программе и просветительской роли отказались ответить на самый главный вопрос о том, почему не только музеи, но и государство в России избегает любых демократических преобразований. Сфера искусства в России нуждается в других отношениях исследователей с художественными институциями — менее зависимых и более демократических.
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- В 2008 году был основан музей «Гараж». А в 2009 — создан фонд V‑A-C.
- Вирно П. Грамматика множества. М: Ад Маргинем, 2015.
- Из пресс-релиза к циклу дискуссий объединения «Кафе-мороженое» о трудовой и ресурсной политике в российском современном искусстве. Доступ по ссылке: https://garagemca.org/event/a‑cycle-of-discussions-by-the-collective-kafe-morozhenoe-on-labor-and-resource-policies-in-russian-contemporary-art
- Из пресс-релиза к концерту кооператива «Техно-Поэзия». Доступ по ссылке: https://garagemca.org/event/a‑concert-by-techno-poetry-cooperative
- Из пресс-релиза к выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100». Доступ по ссылке: https://garagemca.org/ru/exhibition/the-coming-world-ecology-as-the-new-politics-2030–2100
- Hito Steyerl. Freedom from Everything: Freelancers and Mercenaries // e‑flux journal, №41, 2013. Доступ по ссылке: https://www.e‑flux.com/journal/41/60229/freedom-from-everything-freelancers-and-mercenaries/
- Там же.
- Там же.
- Из пресс-релиза ридинг-группы «Давно уже больны мы». Доступ по ссылке: https://v‑a-c.org/ges2/our-wound-is-not-so-recent-a-reading-group
- Пост, в котором Анна Энгельхардт рассказывает о своей реальной личности: https://mobile.twitter.com/engelhardt_x/status/1510311993785393159?cxt=HHwWjoC5mbSw2vUpAAAA
- Лаццарато М. Предприятие и неомонадология, Логос, 4, 2007.
- К примеру, стоит отметить поправки к ФЗ N 121-ФЗ (более известные как «Закон об иноагентах» 2012 года), УК РФ Статья 319 («Закон об оскорблении представителей власти» 2011 года), законы 31-ФЗ и 27-ФЗ («Законы о фейках» 2019 года), закон «О пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и новый 32-ФЗ. В сумме своей эти законы (и многие не перечисленные здесь) запрещают практически любую критику власти).
- Лаццарато М. Предприятие и неомонадология.
- Там же.
- Подробнее в статье «Сцена из русской культуры. В «ГЭС‑2» — цензура. Что делать институциям и возможен ли компромисс?». Доступ по ссылке: https://www.the-village.ru/weekend/point-of-view/vac-veche
- Лаццарато М. Предприятие и неомонадология.
- Вирно П. Грамматика множества.
- Гройс Б. Коммунистический постскриптум. М: Ад Маргинем, 2014.
- Вирно П. Грамматика множества.
- Аванесян А. Комплекс-Время (с Сухаилом Маликом) / Художественный журнал, 2016.
- Аванесян А. «Майамификация». М: Ад Маргинем, 2021.
- Там же.
- Там же.
- Гройс Б. Коммунистический постскриптум.
- Лаццарато М. Предприятие и неомонадология.
- Вирно П. Грамматика множества.
- Там же.
- Из пресс-релиза учебной программы «Внеклассные практики» фестиваля MIEFF. Доступ по ссылке: https://mieff.com/opencall
- Шестакова А. Constructing the Infrastructure of Future. Доступ по ссылке: https://tripleampersand.org/infrastructures-for-the-futures/
- Из портфолио автора. Доступ по ссылке: https://www.andreyshental.com/exhibitions
- Была заказана для фонда V‑A-C.