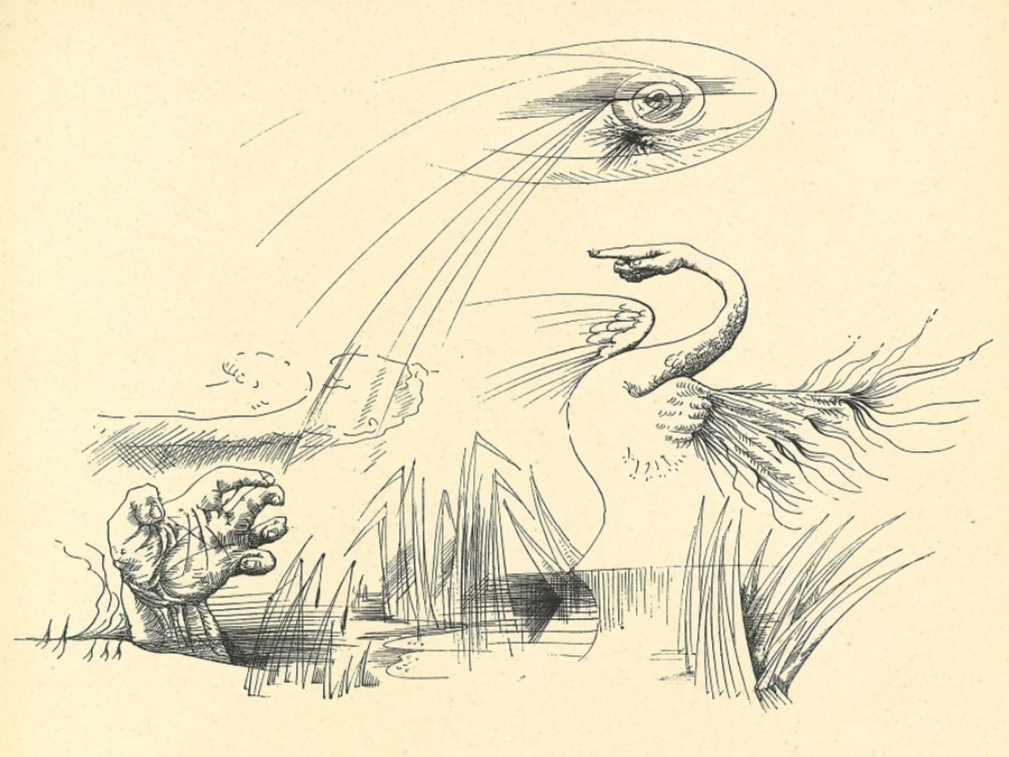Одной из наиболее специфических черт лакановского психоанализа является презумпция психоза. Принято считать, что данный вид анализа, в отличие от всех прочих практик, способен к наиболее тонкой и точной дифференциации этого типа психопатологии. При этом под психозом как структурным феноменом обыкновенно подразумевают:
а) меланхолию (в просторечии — биполярное аффективное расстройство), о которой, как о покойном, следует говорить, либо ссылаясь на «Скорбь и меланхолию» и 10‑й семинар, либо вообще ничего;
б) шизофрению в той или иной её ипостаси, которых согласно Лакану, имеется две: собственно, сама шизофрения, когда наслаждение располагается в теле субъекта, и паранойя, когда наслаждение расположено в Другом.
Вероятно, под «паранойей» подразумевается параноидная форма шизофрении, в то время как под непосредственно «шизофренией» — кататонические и гебефренические ее формы. Прочие расстройства шизофренического спектра, за исключением, пожалуй, шизоаффективного, могут квалифицироваться как неразвязанный или ординарный психоз.
Именно последний и является предметом особой осмотрительности в анализе. Не без экзальтации, местами отдающей лакейством, российские психоаналитики повествуют о том «как обстоит дело в Париже», то есть в рамках школы Ж.-А. Миллера. Так, во время групповых супервизий аналитика могут поднять на смех, если он посмеет высказать слишком самонадеянное предположение о том, что субъект его анализа обладает невротической структурой. Подобно прозорливому старцу или дзен-мастеру, достаточно искушенный коллега всегда готов оспорить столь легкомысленное умозаключение. И даже не потому, что случай действительно можно маркировать как психотический, но скорее для того чтобы «призвать к порядку» зарвавшегося практика. В конце концов лаканианцу никогда нельзя быть уверенным до конца. Примат не-знания возводится в ранг наиболее тщательно оберегаемой добродетели психоаналитика, а подозрение в психозе любого, на чью долю выпало оказаться на кушетке, является прямым доказательством теоретической верности. Подобное, вполне очевидно паранойяльное, подозрение имплицитно вписано в способ мышления лакановского анализа и, судя по всему, представляет собой ни что иное как его симптоматическую продукцию, которую можно охарактеризовать как «позитивную». Иными словами, речь идет о наследуемом вместе с теоретическим аппаратом бредовом образовании.

Желание психоанализа было задано отнюдь не безгрешным интересом его создателя к речи и телу (телу как речи) истерического субъекта. Лакан возвел мезонин. Поэтому, говоря о желании психоанализа, подразумевают именно краеугольный камень, положенный протоаналитиком. Поскольку подобного рода камень может быть возложен лишь единожды — остальные архитектурно-строительные изыскания приходится трактовать исключительно в качестве надстроек. По крайней мере, если между желанием Фрейда и желанием психоанализа принято ставить знак равенства, мысль о желании Лакана уступает место рассуждениям о его наследии. Согласно Дьякову, он не оставил ни практики, ни школы, ни теории, ни философии. По иным наблюдениям, он завещал некий стиль и способ мышления. Сколько в пропорции концепции «стиля» отведено, в терминах самого Лакана, Воображаемому, а сколько Символическому — вероятно, зависит от каждого отдельно взятого субъекта, который этот стиль наследует. Однако, существует нечто общее в способе передачи самого наследия.
Лакановский корпус, как о том свидетельствуют мэтры по ту сторону кафедры, не может быть передан в рамках университета в качестве готового знания. Собирая свои гонорары, они лишь «указывают на возможные точки подступа к Лакану», подобно истерическому субъекту: не давая гарантии, но соблазняя на знание. Тем не менее, дело Лакана продолжает жить, а теория репродуцироваться. Действительно, преподавать Лакана невозможно так, как возможно преподавать Лурию-Выготского, то есть в обсессивно-университетском ключе. Трансмиссия респектабельного знания («стиля», «мышления») работает скорее в качестве индуцированного бреда, и, судя по всему, это единственный способ, посредством которого Лакан может быть усвоен. Безусловно, индукции не произойдет без предварительного переноса реципиента. Вторым важным условием является некоторая интеллектуальная податливость, приобретаемая в процессе истеризации. Без последней, даже при наличии переноса, трудно помыслить способ обоснования некоторых базовых положений теории, принятый в данной среде. Аргументация эта носит характер скорее теологический (если не сказать догматический), то есть любое проблемное место обосновывается апелляцией к самому же Лакану, что до известной степени сужает возможности междисциплинарного диалога. Таким образом, к дискуссии с лаканистом способен только другой лаканист.

Обычно обсуждение развивается по одному из двух сценариев: взаимное дружелюбное виляние хвостами — в случае, если искомое согласие обрести удалось, либо изнуряющий цикл отсылок к различным излюбленным местам Лакана — когда придти к согласию все же не вышло. При этом, сравнивая диспут лаканистов с диспутом теологическим, первому оказывается слишком большая любезность, поскольку полнокровный богословский аргумент, почти никогда не редуцируется к одной только ссылке на Писание, в то время как аналитик находит необходимым и достаточным предъявить пару строчек из Написанного («Écrits») с полной уверенностью в том, что они действительно служат козырем в разыгрываемой партии.
По крайней мере в силу своего великого прошлого, богословие успело выработать обширную методологию дискуссий. К примеру, испанский епископ Мельхиор Кано в трактате De locis theologicis libri duodecim выделил десять основных положений, которые должны применяться в богословских диспутах в иерархическом порядке: 1) свидетельства Священного Писания; 2) свидетельства устного Предания, восходящие ко Христу и апостолам; 3) авторитет Церкви; 4) авторитет церковных соборов, «в первую очередь Вселенских»; 5) авторитет Римской Церкви; 6) учение древних святых отцов; 7) авторитет богословов-схоластов и знатоков канонического права; 8) доводы «естественного разума» — данные точных наук; 9) авторитет философов, «следующих естественному разуму», и юристов, состоящих на службе у светских правителей; 10) авторитетные свидетельства из «человеческой истории». Из этого следует, что богослов из лаканиста выходит никудышный — из десяти оснований он способен задействовать одно-два, в лучшем случае три. Как последнее средство, когда обстрел подходящими цитатами не способен переломить ход событий, в рукаве все еще остается туз, одолженный у апостола Павла: «Это противоречит самому духу учения Лакана», что можно читать как «Буква убивает, а дух животворит».
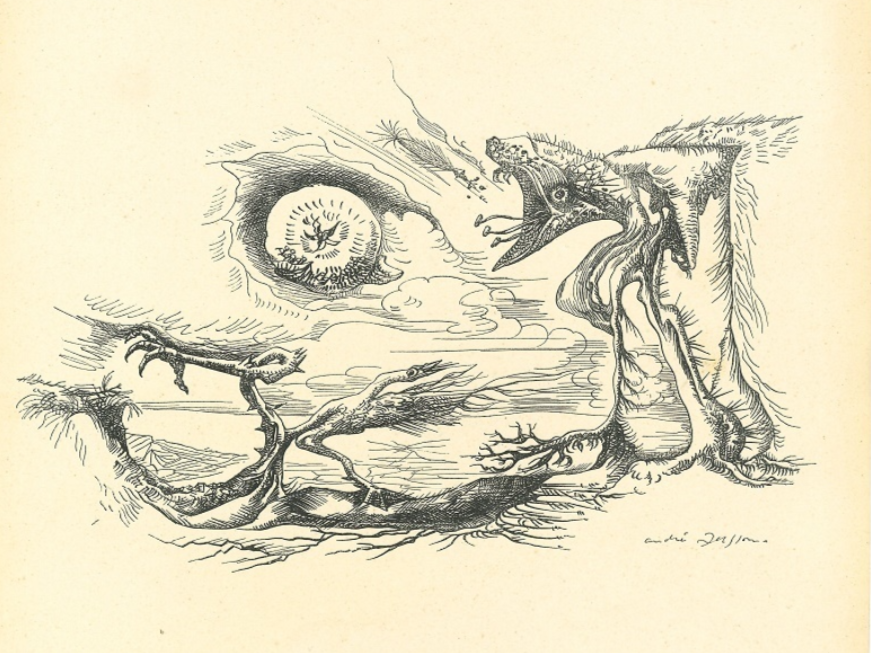
О том факте, что экзегетика лаканисту вовсе не чужда, свидетельствует не только способ ведения дискуссии, но и повсеместная практика так называемых лакановских чтений. Толкование слова Лакана обычно не имеет ровным счетом никаких последствий для теории, за исключением появления более-менее массовых (в зависимости от количества участников ридинг-группы), устойчивых и соборно увековеченных искажений. Однако, чем с большей очевидностью экзегеза выявляет теоретические положения в качестве неприложимых, тем настойчивее неприложимость прочитывается как непреложность. Типичным примером в этом отношении выступает топология.
Это создает забавный парадокс. С одной стороны, междисциплинарность усиленно репрессируется, когда речь заходит о дисциплинах, предмет интереса которых пусть никогда и не достигает тождества с психоаналитическим, но по крайней мере расположен с ним в одном поле клиники. Так, психиатрия, нейронауки, психология считаются радикально несовместимыми с психоанализом. Попытки хотя бы принять во внимание опыт и наблюдения последних обнуляются доводами столь же бескомпромиссными, сколь и трогательными (от «это суржик» или «это технопаранойука» до «психоанализ справляется и так»). При этом волюнтаристски избранная Лаканом топология — предмет его более-менее случайного интереса, приправляющая психоанализ на манер итальянской кухни по принципу «сгодится все, что есть в закромах» — приветствуется с карго-культистским рвением.
О статусе топологии в психоанализе сложно высказаться однозначно, даже опираясь на самого Лакана. В рамках конгресса «Критические языки и гуманитарные науки»1 Лакан заявляет: «Он (тор) существует на самом деле, и он является точной структурой невротика. Это не аналогия, это даже не абстракция». В 26 семинаре он утверждает нечто противоположное: «топология позволяет создать в практике ряд метафор»2.

Предположим, что читатель Лакана окажется достаточно неосторожным, чтобы отнестись к гипотезе «невротик = тор» слишком серьезно. В таком случае предполагается, что тор может послужить математической моделью невротика (то есть он действительно схож или даже представляет собой «точную структуру» невротического субъекта). Тогда, исследуя отдельные свойства тора в рамках математического моделирования, полученное знание о модели позволило бы заключить нечто об объекте нематематическом, то есть о невротике. Иными словами, проецируя отдельные свойства невротика на тор, невозможно произвести обратной операции: например, спрогнозировать поведение нематематического объекта «невротик» с учетом наличных данных о его модели «тор». Именно возможность произведения этой операции отличает математическое моделирование от создания метафоры при помощи языка математики.
«Источник метафоры — сознательная ошибка в таксономии объектов. Метафора работает на категориальном сдвиге» — Н. Д. Арутюнова3
Если категориальный сдвиг, основанный на сознательной «ошибке», является метафорой (либо теоретической спекуляцией), то что собой представляет предположительно неосознаваемая «ошибка» такого рода? Вероятно, речь может идти о примитивном герметизме. В рамках этого предположения, «невротик = тор» является мыслительной операцией того же порядка, что и вывод Гермеса Трисмегиста — «что наверху, то и внизу». В попытках развеять морок Воображаемого при помощи математической/топологической записи психоанализа, Лакан совершил нечто своему изначальному намерению противоположное.
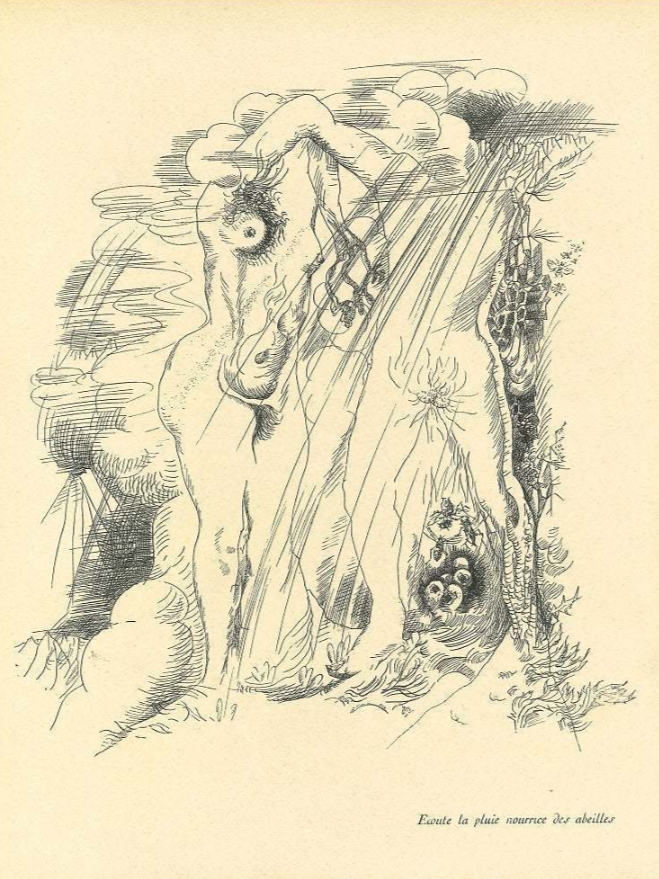
Пользуясь герметическим способом мыслить вещи, вполне возможно пойти по стопам Джордано Бруно и произвести на свет теоретический продукт в духе трактата «О связях как таковых», где на место старых звездных констелляций придут констелляции новые — узлов и поверхностей. Тогда вполне «в духе учения Лакана» будет возвещение об очередном теоретическом возвращении, где ни у кого не должны вызвать оторопь следующие постулаты: невротик — это микрокосм, а также тор, калоша, тростник, возничий при своих конях, и так далее, и так далее. Действительно, при должном усердии в невротике нетрудно обнаружить нечто и от тора, и от калоши, и даже от микрокосма. Воображаемая захваченность поиском сходств может быть крайне плодотворной (по крайней мере здесь трудно не преуспеть), но только в случае, если некто намеревается учредить кружок по интересам в духе ордена Золотой зари. В таком ракурсе смущающая многих практика по вязанию узлов или разрезанию ленты Мебиуса, которая должна прояснить нечто о функции разреза в психоанализе, выглядит неким дериватом имитативной магии.
В свете вышеизложенного заявления некоторых аналитиков о психотичности психотерапии как практики создают комический эффект (что, впрочем, не отменяет факта ее психотичности). Удовольствие, получаемое от этого способа «оглашения наслаждения», можно сравнить разве что с удовольствием больного шизофренией, которому посчастливилось встретить кого-то с тем же недугом, протекающим в несколько более тяжелой форме, поскольку только на его фоне первый может козырнуть условным благополучием и успокоительно заверить себя в том, что уж у него-то дела идут не так плохо. То есть произвести стандартный паранойяльный поворот: «это не я, это он».
В попытках разгадать загадку свойственной лакановскому психоанализу паранойяльности, попробуем помыслить спекулятивную гипотезу, которая может стать пощечиной любому хорошему вкусу, однако будет соответствовать тому самому пресловутому «духу учения Лакана». Вполне очевидно, что, говоря о психозе Джойса или Витгенштейна, сам Лакан подобного рода злоупотреблениями не брезговал. Допущение заключается в том, что лакановский психоанализ (главным образом та его часть, которая относится к учению о психозах) представляет собой теоретическую конструкцию, изобретенную на том же материале, на котором был открыт синдром Кандинского-Клерамбо. Так, говоря о тривиализации борромеева узла в психозах, когда посредством спаивания колец конструкция преобразуется в узел трефль, то есть происходит упразднение между регистрами R‑S-I, Лакан как будто упускает из вида тот факт, что именно в этот момент дыра в Символическом порядке его теории начинает восполняться Воображаемыми конструкциями.
В пользу подобного предположения может свидетельствовать изобилие так называемых лаканизмов — неологизмов, введенных Лаканом. Так же как и бред, неологизм служит задаче связывания цепочки означающих от распада. Желание в изобретении и введении в оборот новых означающих (чего, к примеру, никогда не делал Фрейд — известно, что он заимствовал для теории означающие уже существовавшие) может быть продиктована необходимостью залатать дыры в дискурсе самого Лакана. Неологизмы эти нагружены особенным наслаждением, вокруг которого вращается вся теоретическая конструкция.

«Это тот зачастую необычный и совершенно особый на вкус язык, который именно бредящему бывает свойственен. Это язык, в котором некоторые слова принимают специфический оттенок, некую плотность, которая, проявляясь порой у означающего, придает ему столь ярко выраженный у параноиков характер откровенного неологизма». Лакан, 3 семинар4.
По мысли Лакана, бред является воображаемым конструктом, синтомом, который держит вместе три Борромеевых кольца, попыткой компенсировать несрабатывание отцовской метафоры, предотвращая психотический распад. Однако само означающее «метафора отца» также может быть рассмотрено в качестве неологизма, потребность в конструировании которого свидетельствует как раз о том, что в какой-то момент метафора отца не сработала и что структурный психоанализ представляет собой синтом Лакана.
Из этого допущения не следует никаких особенных выводов о пресловутой истинности или ложности теории. Если жена действительно изменяет параноику — параноиком он от этого быть не перестает. Однако верно и обратное: даже если субъект является параноиком, это не гарантирует безгрешности жены. Тем не менее, принимая данное допущение в качестве возможного, бдительность относительно структуры анализанта предстает в качестве инверсии вопроса «невротик я или психотик» самого Лакана. Перенесенный таким образом с аналитика на анализанта инвертированный вопрос продолжает функционировать в качестве базовой задачи любого анализа.
Может статься так, что любителям искать психотика под кроватью стоит попробовать отыскать его на своей книжной полке, а быть может и на кресле у изголовья кушетки. По крайней мере подобное допущение способно до известной степени смягчить Воображаемый накал избыточности подозрения в рамках практики, где всеобщий упадок Имени-Отца/гаджеты/интернет/возможность-заказывать-еду-на-дом/анонимные-форумы/что-угодно-ещё — имеет своим следствием повсеместную психотизацию, что на поверку оказывается продуктом наследуемой паранойяльной позиции самого аналитика, его родимым пятном, рискующим приобрести признаки злокачественности.
Татьяна Баублей
https://t.me/tbaubley
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Сообщение, прозвучавшее на Международном симпозиуме Гуманитарного центра Джона Хопкинса в Балтиморе (США) «OF STRUCTURE AS AN INMIXING OF AN OTHERNESS PREREQUISITE TO ANY SUBJECT WHATEVER». Опубликовано в журнале «The Languages of Criticism and the Sciences of Man: The structuralist Controversy» под редакцией Р. Маккси и Э. Донато, Балтимор и Лондон, The Johns Hopkins Press, 1970, стр. 186–195.
- Lacan J. XXVI. La topologie et le temps 1978–1979. 1. Leçon 1 — 21 novembre 1978.
- Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Вступит. ст. // Теория метафоры. М., 1990. С. 17–18.
- Лакан Ж. Психозы (Семинар, Книга III (1955/56)). Логос, 2014. С. 45.