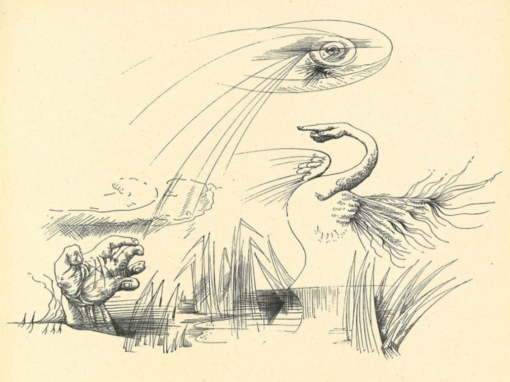Всякое зрелое искусство познало стадию зеркала: рассказ о рассказе, осмысление своей облечённости в некую символическую форму. Западный кинематограф проходит свою стадию зеркала после войны — в этом зиянии перехода от чёрно-белого кино к цветному и поднимается французская Новая волна, итальянский неореализм, Оттепель: «На последнем дыхании», «8½», «Персона», «Зеркало» — перечислять эти фильмы можно достаточно долго. Их объектом становится не внутренний нарратив, но работа кино сама по себе — зазор. Камера отъезжает, кинооператор машет рукой. Плёнка сгорает.
Разумеется, историческое течение неоднородно: нащупывание этого зазора можно встретить и раньше («Человек с киноаппаратом», «Андалузский пёс», «Земля» Довженко, «Орфей» Кокто), но скорее в формате казуса или же откровения, чем как выработанный киноязык, благодаря которому в этом зазоре смогут буквально поселиться такие авторы, как Тарантино, Линч, Джордан Пил.
И вот на эту киноплощадку — из смутно-мистериальных спектаклей, переводов текстов кашмирского шиваизма, теории гомотопических групп, странных, крайне странных сборок-текстов-сновидений, написанных как бы некоей стаей крыс — приходит Роман Михайлов.
Всего за один 2023 год съёмочная группа Михайлова — или, как они сами себя называют, кинообщина — выпускает пять (!) фильмов:
- «Сказка для старых»
- «Снег, сестра и росомаха»
- «Отпуск в октябре»
- «Наследие»
- «Поедем с тобой в Макао»
Это фильмы, которые как бы не умеют снимать. Ну просто не умеют — не провели достаточно времени в процессе. Дело даже не в отсутствии гладкости кинопроизводства, но в какой-то странной лоуфайности, из-за которой объёмы приходится как бы дослышивать.



Обескураживает и тематика: какие-то бандиты, какие-то девяностые. Если перед просмотром прочесть хотя бы один абзац из михайловского «Равинагара», первая мысль будет: это просто прикол. Когда же Михайлов (который, в целом, любит хвалить свои картины) называет «Снег, сестру и росомаху» крайне тонким фильмом — звучит это почти издевательски.
Менты, фонари
Во-первых — «Снег, сестра и росомаха» выглядит невероятно мутно. 90% хронометража пробиваются сквозь грязную жёлтую сепию (впрочем, средний русский город так и выглядит зимой), а на контрасте — синий фильтр, в котором сняты сцены внутри христианской секты. Вроде бы это история любви по телефону между ментом и женщиной-пастором «Живой Церкви», но нарратив обрывчат, время неясно-размазано — не то ранние нулевые, не то современность (мобильные с кнопками, второстепенный герой, который хочет быть стендапером; на куртках всё-таки «полиция», а не «милиция»). Во-вторых — визуальная смутность усугубляется тем, что двух явно разных героев играют лысые мужчины в возрасте, притом, что никакого мотива двойничества между ними нет: равно как не проблематизируется и тема секты, от которой в фильме только одна проповедь и один музыкальный номер. И среди этого вязкого сумбура герои созваниваются и делятся переживаниями, метафизическими и не очень.



Единственная дневная сцена — это финал: контраст жёлтой лампы накаливания и синего неона сменяет бледное освещение. Герои (а менту только что назначили заняться закрытием секты) сидят в одном кафе, смотрят на телефоны, чтобы позвонить и — не звонят. Но странным образом эта понятная, очень понятная сцена невстречи — передерживается. Не как у Триера, где камера висит 5 секунд дольше, ловя постэффект восприятия, — нет, здесь камера висит полторы лишние секунды перед каждой склейкой.
И это режет явственным ощущением неслучайности.
То же касается и несусветного злоупотребления крупными планами (NB — формат фильма не 4:3, а все 2,15:1), которые вместе с этой жёлтой сепией усиливают впечатление визуальной каши и совершенного отсутствия акцентов: это буквально какие-то сны про бандосов («Я вообще никогда не улавливаю сюжеты фильмов — так, просто путешествие по внутренним образам, по пятнам памяти» — говорит герой). И снимает это всё человек, читавший «Кино» Делёза, проходивший профессиональные курсы, который просто не может не знать о давящем эффекте от переизбытка крупных планов (теряется инструмент акцентуации). Однако ни в «Сказке для старых», ни в «Наследии», ни в «Отпуске» такого бешеного количества крупных планов просто нет.
Это и не нормальное кино про бандитов-ментов, и не какая-то метафизическая притча — некий strangewave, наклон реальности 0.9 градуса. Сам Михайлов неоднократно обращается к слову «ритмы»: ритмы аниме, ритмы блокбастеров, ритмы советских фильмов, ритмы Болливуда — усваиваются они банальным нахождением в этом кинопространстве. Община же Романа Михайлова, очевидно, пытается навязать свои ритмы, атаковать зрительскую привычку (прежде всего — количеством: 423 минуты суммарного хронометража), предлагая вырастить новые органы неизвестного назначения.
Светочувствительные материалы
Из всех фильмов, снятых кинообщиной, «Отпуск в октябре» — не только самый совершенный в плане кинопроизводства (цветовая схема на контрасте красного и синего), но и по тематике самый романмихайловский. Некая притча про двух актрис, которые сбегают из съёмок ментовских сериалов в Болливуд (пытаются); режиссёр этих сериалов — Замай (проектирует реальность этого Петербурга), съёмки — халатные: два дубля, в которых героиня одинаково ненатурально пилит яичницу вилкой, всё снимается банальной восьмёркой — стоп, снято! — камера отъезжает и облетает всех одним планом (в «болливудском» сегменте наоборот: в реальности работает монтаж, а снимаемая сцена идёт одним планом).


Непосредственно в ткань фильма вшита запись кастинга Марии Мацель, которая играет главную героиню, Свету:
МИХАЙЛОВ. Расскажи, как ты стала актрисой. Что тебя к этому подтолкнуло?
МАЦЕЛЬ. Мне кажется, потому что в жизни я не очень смелый человек и боюсь резких необдуманных решений, рискованных поступков, а когда ты актёр или актриса — ты всё время в неизвестности и всё время в состоянии какого-то риска. Так что, типа, — профессия сопротивления.
Этой реальности ментов Света и Лена — типа — сопротивляются: читают рэп на кастинге (качает головой только Елизаров), слушают Bollywood FM (всего в фильме 4 музыкальных номера (с нарочитой зрительской реакцией): своего рода прорыв Индии в эту серую ментовскую реальность), уговаривают дефолтную маму отпустить в Дели. Болливуд же оказывается фейком — стрёмный грузовик посреди холодного нигде, в который смелая Лена залезать отказывается, а скромная Света забирается и попадает в инобытие съёмок под туманным Петрозаводском (сказочная инверсия: сперва Света просит, чтобы её взяли, а потом Лена звонит, просит, чтобы её взяли, — и испаряется из сюжета).
Индусов на съёмках — только режиссёр и главный герой (похищает возлюбленную у русского мафиози). Проходит всё не профессиональнее, но живее: на постановку танцевального номера дают 20 минут, мафиози снимаются из соображений «при том, какие деньги нам платят и что это никто не увидит, — и норм», французского продюсера переводят чёрт-те как, простои бывают по три дня из-за астрологических прогнозов. Все танцуют.
Синие лучи сходятся на диджее (Евгений Ткачук), который и задаёт саундтрек этого танца: «музыка — другое дело, настоящее искусство, тут работа не с образами, а с чистыми чувствами» (очевидно, речь идёт о музыке сфер). Искусительным движением он приоткрывает ещё один слой, показывая документальный фильм про плёнку Свема (ту самую, с зеленоватостью 70‑х). Своеобразный дядечка (Михайлов настаивает, что исполнитель, ещё не прочтя сценарий, имел сходную конспирологическую теорию) рассказывает, что «на молекулярном слое эмульсии плёнки Свема содержится мощнейший агитационно-биологически-научно обоснованный заряд», накладывающийся на кинопродукцию и образующий «узор, который внедряется в быт советского человека», — а всё это обрамляют ковры («Тарковский вообще только на “Кодак” снимал» — добавляет Ткачук; ещё бы, после брака всего материала «Сталкера» снимал бы он на «Свема»). Алхимики, обслуживающие КГБ. Новогодние показы «Иронии судьбы» и «Служебного романа» как инструмент идеологического контроля. Казалось бы — тема для Жижека, но для Михайлова кино как производство реальности — это нечто совершенно буквальное.


Далее следуют снятые на плёнку кинопародии про советских интеллигентов, запутавшихся в любовной геометрии («ну а где премия, там и путёвка»), идеологические отчёты от начальства («думаешь, твоя жена не знает, что ты шашни с машинисткой крутишь?») и проч. Некоторые вещи невероятно тонки — например, типический план, когда герои театрально отходят в угол сцены и смотрят как бы мимо камеры, но и на неё (буквально этот зазор игры) — в этом есть безусловное узнавание. И Света, и парень, который ей нравится, и другие актёры как дети разыгрывают эти сцены, дублируя советский узор, — а уже эту игру снимает команда и отправляет в Болливуд (индусы снимают русские сны?). Вокруг же съёмочной площадки — пространство тумана и гротескных гопников (без которых Михайлов, кажется, жить не может), оберегает артистов от них мужик с собакой, и всё спрашивает, когда уже выйдет фильм.
Можно выделить следующие уровни:
- Ментовские сериалы
- Советская плёнка
- Псевдоболливуд
«Реальность» как таковая принципиально отсутствует, вне работы кино ничего нет — только коннекции снов, самотворящаяся структура (в танце Светы и Андрея Bollywood FM поёт: «но выдумать банальнее, чем мы с тобой, нельзя»). Но у этой игры есть мифический предел: можно просто раствориться в этой плёнке, провалиться между кадров — это героиня и делает (ещё смотря плёнки, она говорит, что «жила бы честнее»). Стоя в своей комнате, она роняет вазу (с этого звука начинается фильм) и — схлопывая сновидение — выходит в советский подъезд: мимо мужика с собакой, порхающая, естественная (сцена снята одним планом) — не проверяя почтовый ящик, а как бы гладя его. Перед анфиладой арки она замирает, оглядывается на зрителя, с полуулыбкой — и уходит в эту плёнку.
Обрыв в духе обрывов романмихайловских текстов.
Игра в кубики
Сам Михайлов крайне не любит сопоставления своего творчества с Дэвидом Линчем (который настолько объёмно проработал тему сновидений, что неизбежно влияет на канву восприятия любых других сновидческих произведений): привожу его не с целью уподобления, но для разъяснения.
Сборки Линча — принципиально а‑интеллектуальны и интуитивны, но, несмотря на все перетекания-прослаивания уровней, его миры удивительно целостны. В большинстве его фильмов есть бинарная оппозиция фальшиво-светлой (очевидно, и ностальгической) реальности с новенькими бьюиками, лужайками частных домов, почти техниколоровским лоснящимся светом («Синий бархат», «Шоссе в никуда») и реальности этого страшного пробуждения в тьму. Сны Михайлова выглядят намного более сыро и необработанно, но и у них есть ностальгическая изнанка — это 90‑е с гопниками и сепией. И эстетика «Снега, сестры и росомахи» и «Наследия» — это своего рода попытка исправить сложившуюся репрезентацию эпохи, которая теряется и растворяется в балабановском киноязыке (параллели с которым Михайлов также остро не любит).



В «Отпуске» же мы наблюдаем своего рода ресентимент советского кино 70‑х.
Ключевым визуальным образом фильма является ковёр — характерный для быта советской/постсоветской реальности: буквальное воплощение этого самого узора. С ковра фильм начинается (висит на стене героини), ковром фильм продолжается (в «болливудском» номере ковёр разрезан и вставлен в рамочки), ковром фильм оборачивается (двойная экспозиция поверх псевдодокументальной плёнки) и к ковру фильм и сводится (когда Света, в платье, которое само как ковёр, разыгрывает советскую сценку — она истерически танцует на фоне ковра, а затем падает на него и сливается с ним).
Несмотря на заявленное в начале сопротивление актрис — никакого реального сопротивления в фильме и нет, есть только инерция: из сна про ментов героиня просыпается в сон про Болливуд, из которого она перетекает в сон про Советский союз (где чувствует себя намного более уверенно). Характерно, что в ситуациях перехода с уровня на уровень (грузовик; игра в плёнки) отсутствует как таковой выбор: героиня ничем не жертвует для осуществления этого перехода. Просто скользит.
Достаточно много и поверхностно герои говорят о снах: «я видела это во сне», «ты знаешь, что бывают сны во сне?», «а если ты проснёшься, и я тебе приснился?». Иногда авторов явно подводит чувство вкуса. Как ещё объяснить музыкальный номер с красными занавесками и героиней в платье, поющей «и вроде бы не сплю я, и вроде бы я сплю»? Это не михайловские сгустки и интенсивности, это не чувство того, что затылок ощупывает рука сестры из прошлой жизни, которой на самом деле нет, — это голое проговаривание.
«Отпуск в октябре» — это, безусловно, мета, но очень осторожное мета: прирученное Бергманом и Феллини, оно не атакует экран и не выходит за рамки уже освоенного языка, хотя переливается удивительными (иногда) — почти — прорывами. Однако складывается впечатление, что, перекладывая кубики и жонглируя, увлечённо плетя (не)магические ковры советского паттерна, Роман Михайлов (скорее метафизик, чем делезианец) конструирует не гладкие пространства, а рифлёные. Если в «Улице Космонавтов» шизики торжествуют (странно, но торжествуют), то «Отпуск в октябре» завершается тем, что и сбежавшая Света, и не сбежавшая Лена продолжают играть в тех же ментовских сериалах (с разным кастом и музыкой), пока их сны охраняет мужик с собакой.
Хорошо, Роман Михайлов играет в кубики — но с кем?
И на что?
Михайлов не раз писал, что власть и властные отношения его в принципе не интересуют: «Меня… всегда интересовали поры-норы-лазейки, внутри которых может селиться не индивид, а некое сообщество — такие поры-норы, над которыми нет тотального контроля. Над ними может не быть контроля по разным причинам. Например, они не представляют угрозу никаким политическим режимам, не особо захватывают ресурсы, в том числе внимание, или то, что они делают — слишком сложно. Они могут быть защищены сложным языком, когда тотальный контроль вторгнется к ним, он запутается или ничего не поймет. Идеальная картина: тотальный контроль вторгается, смотрит, понимает, что себе дороже с ними разбираться, и уходит».



«Макао», «Росомаха», «Отпуск в Октябре» и посвящены таким миркам (более того, Михайлов говорит уже и о замысле «Бременских музыкантов»…). Следуя по линиям ускользания, его герои из раза в раз забиваются в эти уютные подвальчики и играют в кубики, воспроизводя советский паттерн внутренней эмиграции (и «Свема» такая зелёная, и юный Октябрь впереди). Странным образом, Михайлов так много говорит о том, что окружавшее его в детстве советское кино 70‑х никакое не застойное, что это алхимия, — но вся та магия, которая в этих подвальчиках и водится, строго канализирована, паттерн повторяется, покуда не истлеет первоплёнка, да, собственно, никакой первоплёнки и не было, было только это безнадёжное послевкусие, даже более безнадёжное, чем от — (после парения на крыльях Оттепели! после Хуциевского «Июльского дождя», из чёрно-белой плёнки которого свет просто лучится!!!) — советского кинематографа 70‑х.
Ну что ж, век за веком, махакальпа за махапралайей, колёсико вертится — да и пусть его. Пусть Бременские музыканты, пусть независимый кинодвиж: в команде бродячие артисты, карлики, математики, каталы, Абхинавагупта!..
Да только кубики с самого начала были краплёные.
Автор Никита Немцев
Редактор Дмитрий Хаустов
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом: