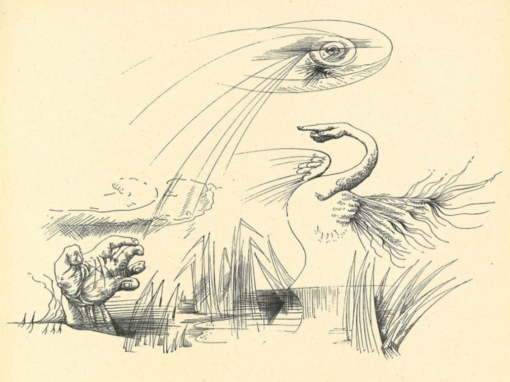Про weird fiction (наиболее точный перевод — «причудливая проза» или «таинственная проза», хотя часто обходятся просто «странной») особенно часто стали писать с начала нулевых, когда возникло самонареченное движение New Weird. Его теоретиками стали Чайна Мьевиль, Джефф и Энн Вандермееры, Майкл Муркок и другие авторы. Это писатели, которые отказались ограничивать собственную фантазию и стали создавать миры один вычурнее другого: город, населенный живыми кактусами и жукоголовыми людьми (Мьевиль); зона экологической катастрофы, где процветает инопланетная флора и фауна, а животные учатся имитировать человеческий голос (Вандермеер). Эти авторы и другие теоретики стали искать корни «причудливой» прозы в XIX веке, а за отчет обычно берется творчество Герберта Уэллса и — разумеется — Говарда Лавкрафта, без которого сегодня, кажется, редко какое обсуждение фантастики и ужасов может обойтись. Лавкрафт, собственно, и дал определение «причудливой» прозе (впрочем, проблемное — об этом чуть дальше) и публиковал рассказы в журнале с названием Weird Tales.
Тем страннее (каламбур ненамеренный), что с определением «причудливых» текстов всегда возникает проблема. Вот недавний текст одного из теоретиков «причудливого» направления в России Ильи Пивоварова. Обращая внимание на сущностную разницу между прозой лавкрафтовского направления и New Weird, которую отмечают другие теоретики, Пивоваров пишет:
«Я не против такой точки зрения, но она создает жанровую путаницу. Я придерживаюсь теории, что вирд — это любая «странная проза», в которой есть загадка, но нет ключей, которые бы помогли ее расшифровать, либо есть, но они слишком неявные, чтобы интерпретировать их однозначно. Ну а New Weird, «Новые странные», — движение писателей, возродивших и усовершенствовавших вирд».
Нетрудно заметить, что такой расширительный подход как раз и создает путаницу, поскольку прозой, в которой «есть загадка, но нет отгадки», можно назвать практически что угодно начиная с «Дон Кихота», да и не очень понятно, каким образом городское фэнтези Вандермеера и Нила Геймана продолжает эту литературную традицию. Но эта путаница скорее характерна для обсуждения «вирда»: как справедливо отмечают Анастасия Липинская и Александр Сорочан в статье «Этюды о странном», теоретики долго игнорировали это направление в искусстве, в результате понятие было отчасти присвоено маркетологами, а отчасти — поднято на щит фанатами малоизвестных авторов, которые пытаются актуализировать творчество любимых писателей через призму популярных категорий.
К такой фанатской работе относится «Weird реализм» — эссе известного философа Грэма Хармана, посвященное разбору «недооцененного» литературного стиля Лавкрафта. Конечно, в анализе малоизвестных авторов нет ничего худого (хотя Лавкрафта назвать «малоизвестным» довольно проблематично), однако теоретики weird склонны в своем анализе преувеличивать стилистические преимущества своих фаворитов. Так, обвиняя критика Эдмунда Уилсона в упрощении в ответ на его отзыв на прозу Лавкрафта, который создает «детально разработанный миф, предполагающий расу внеземных богов и гротескных доисторических народов, которые постоянно играют со временем», Харман доходит до того, что утверждает буквально следующее:
«Согласиться с мыслью, что как стилист Лавкрафт уступает авторам вроде Пруста или Джойса (двум любимчикам Уилсона), я не в состоянии. Скорее уж верно обратное»1.
В этом высказывании чувствуется скорее горячность фаната, чем строгий аналитический подход исследователя. В конце концов, при всем визионерстве и причудливом своеобразии прозы Лавкрафта, в своих текстах классик ужасов пользуется одними и теми же приемами, которые перестают производить впечатление после нескольких прочитанных подряд рассказов. Действительно, любой читатель, раз увидевший:
«Метеорит был одиноким таинственным вестником из иных вселенных, где царят иные законы материи, энергии и вообще существования»2.
и обнаруживший похожие пассажи в том же самом и других текстах Лавкрафта, наперед уже знает весь арсенал эффектов в кармане автора. При желании можно даже писать под Лавкрафта до степени смешения — не зря его последователи вроде Августа Дерлета и других бросились осваивать изобретенный мастером пантеон Древних богов, да так, что проза подражателей до сих пор пополняет полки фанатов «причудливой прозы». Подобный же трюк с Прустом или Джойсом заранее обречен на провал.

Итак, вокруг «вирда» царит терминологическая путаница, а анализ текстов пишущих в этом жанре авторов рискует обернуться отрицанием литературного канона с позиций тех же самых авторов, но без особенного основания. В то же время очевидно, что категории weird соответствует вполне отчетливое читательское ощущение особого остранения, восхищения перед непостижимым, которое вызывают у наблюдателя, к примеру, особенно сильные сцены из фильмов Дэвида Линча. А также — попытка помыслить фантастические вселенные, в которых привычные законы природы разрушаются кем-то или чем-то или нарушены изначально безо всякой цели, как в текстах Вандермеера или Мьевиля.
Оба эти описания противоречат друг другу, ведь красная комната из сериала «Твин Пикс» так же сильно утверждает взаимопроницаемость материального и трансцендентного миров, как и поздние тексты Лавкрафта отрицают какую-либо трансцендентность в принципе (Лавкрафтовские Древние настолько же материальны, как, скажем, стул или чашка кофе). А означает это одно: «вирда» на самом деле два, точнее, между «модусом таинственного» (weird mode) в искусстве и жанром «причудливой фантастики» (weird fiction) есть существенная разница.
Опустели берега
Под модусом обычно понимают определенный набор литературных приемов, свойств текста, которые создают уникальный эффект, и при этом такой инструментарий не относится к специфическим особенностям какого-либо отдельного жанра. Наиболее близкий нам пример — готический модус. В известном эссе «Заметки о готическом модусе» Анджела Картер пишет: «Готический модус возникает из абстрактных понятий романтизма. Он работает напрямую с образами подсознательного: зеркалами, внешним Я, автоматами, темной стороной повседневности, запретными сексуальными объектами, призраками». Готика оказалась достаточно сильна, чтобы ее влияние ощущалось в прозе писателей-реалистов, в первую очередь Диккенса и Достоевского.
Ближе всего к определению «модуса таинственного» приблизился Марк Фишер в своем эссе «The Weird and The Eerie» («Таинственное и мрачное в искусстве»). Фишер отталкивается от фрейдовского понятия unheimlich, которое на русский обычно переводят как «жуткое», а на английский — uncanny (то есть тоже «жуткое»), но автор как раз обращает внимание на то, что буквально эта категория переводится как unhomely, «не-домашний», то есть это что-то «странное внутри знакомого, странно знакомое, знакомое как странное»3. «Таинственное» отличается от «мрачного» тем, что вносит Внешнее вовнутрь, то есть помещает неизвестный, неподходящий элемент в знакомую обстановку. «Таинственная сущность или объект заставляют нас ощущать, что их не должно быть, по крайней мере, их не должно быть здесь»4. В качестве примера Фишер приводит технику монтажа, когда два изначально не связанных друг с другом объекта оказываются в неразрывной связи. Вспоминается короткометражный фильм «Кролики» Дэвида Линча: каждый эпизод фильма, заявленного как «ситком», показывает некую комнату и содержит скетчи с неожиданными диалогами трех людей-кроликов, каждый из которых ведет свою собственную игру. Кролики общаются друг с другом, но их реплики между собой слабо связаны и наполнены неким тайным смыслом, ускользающим от зрителя: «Ты был блондином?», «Что-то не так», «Интересно, кем я буду», «Я только хотел бы, чтобы они куда-нибудь ушли», «Это было как-то связано с рассказом о Времени» и «Никто не должен узнавать об этом». При этом, как и полагается в ситкоме, реплики сопровождаются закадровым смехом. Но загадочность сцены, неуместность смеха и гнетущая атмосфера создают ощущение тайны и жути.
При этом в отличие от других авторов, например, С. Т. Джоши, который видел прямую преемственную связь между историями о призраках (ghost stories) и таинственной прозой, Фишер обращает внимание на то, что модус таинственного проявляет себя не только в хоррорах. Сам ужас не является обязательным элементом таинственного. В часто цитируемых «Заметках о работе над «таинственной прозой» (Notes on Writing Weird Fiction) Лавкрафт не сразу упоминает ощущение ужаса как неотъемлемую часть «таинственного», на первом месте для него «неясное, обрывочное, ускользающее ощущения присутствия чуда или невообразимых возможностей», то есть, как справедливо замечает Фишер, речь идет в первую очередь не об ужасе, а о восхищении, изумлении, сопровождающемся некоторой тревогой. Отсюда становится понятно, почему короткометражный фильм Линча «Что сделал Джек?» 2017 года (трейлер), в котором безымянный детектив в исполнении самого Линча допрашивает ручную обезьянку на железнодорожной станции, кажется странным и таинственным, но при этом не способен напугать.

На ряде примеров Фишер выделяет отличительные черты «таинственного». Пожалуй, главная: «таинственное» взламывает привычные представления о пространстве-времени и акцентирует разлом между привычным представлением и чем-то новым, что этому представлению кладет конец. То есть, пишет Фишер, черные дыры в этом смысле куда более таинственны, чем, допустим, вампир: нам куда легче помыслить человека, питающегося кровью, чем астрономический объект, который вспарывает пространство-время и поглощает любую материю, в том числе свет5.
Это состояние пограничного четко улавливает Герберт Уэллс в рассказе «Дверь в стене», где возможность попасть с помощью двери в другой, чудесный мир меняет представления героя о реальности и становится причиной его невроза. То есть, в отличие от героев «Хроник Нарнии», для которых реальность Англии сороковых служит лишь отправной точкой, персонажам произведений в «таинственном модусе» все время приходится сталкиваться с онтологическими разрывами и с состоянием пограничного. В очаровательно таинственном фильме «Под Сильвер-Лейк» (2018) герой в поисках заинтересовавшей его девушки набредает на цепочку улик, которая приводит его к раскрытию мирового заговора богачей, которые в ожидании последнего дня запираются в подземных бункерах вместе с персональным гаремом. В процессе расследования герой набредает на старого композитора, который наигрывает ему на рояле хиты от «Love me tender» до «Cry me a river» и с издевательским хохотом орет «Все твои любимые песни написал я!!» После этого завязывается перестрелка, в ходе которой протагонист расшибает композитору голову любимой гитарой Курта Кобейна.
Еще одним важным элементом «таинственного» является «когнитивное остранение». Вторжение таинственного означает не просто то, что базовые представления наблюдателя о реальности разрушаются, — это означает и то, что сформулировать базовые представления о реальности больше невозможно в принципе. Этим последствиям вторжения таинственного, считает Фишер, посвящены романы Филипа Дика, в частности, «Порвалась дней связующая нить», где тихий американский городок 1950‑х оказывается ширмой, декорациями, призванными скрыть антиутопичную реальность будущего Земли, вовлеченной в космическую войну. «Самые сильные пассажи у Дика там, где царит онтологическое междуцарствие: травматический разрыв привычных представлений о мире еще не обоснован сюжетно и образует пространство неопределенности, которое еще предстоит включить в новый символический режим»6.
Еще одним свойством «таинственного» является образование «временных петель»: Фишер приводит в пример роман Тима Пауэрса «Врата Анубиса», в котором попавший в прошлое специалист по малоизвестному поэту эпохи Регентства7 Эшблиссу Брендан Дойл после серии приключений обнаруживает, что он и есть Эшблисс.
Суммируя, можно сказать, что «таинственный модус» предполагает онтологическую неопределенность реальности произведения. Причем у этой неопределенности могут быть и вполне политические последствия.
В видеоигре Disco Elysium (2019) от эстонской студии ZA/UM полицейский-алкоголик Гарри Дюбуа вместе с напарником Кимом Кицураги расследуют убийство в портовом районе Мартинез крупного города Ревашоль, когда-то бывшего центром Мировой Революции. На фоне нищеты и разрухи в городе процветают самые разные политические теории, от консерватизма центристов из Коалиции «Моралистического Интернационала» до коммунизма и фашизма.
Но действие происходит не в нашем мире, а в дизельпанк-реальности мира под названием Элизиум. Элизиум представляет собой группу крупных островов, окруженных таинственной сущностью под названием The Pale (в русской локализации — «серость»). У серости нет каких-либо свойств, более того, она сама по себе способна прекращать свойства других вещей; ближайшей аналогией будет натянутая на поверхность известного мира черная дыра. По сути, серость — это Ничто, и ближе к концу игры мы узнаем, что, во-первых, серость продолжает расширяться, во-вторых, она способна влиять на мысли и поступки окружающих, а в‑третьих, именно человечество виновато в том, что серость появилась и расширилась. То есть, выкрученная на максимум таинственность (серость в Disco Elysium — это, в сущности, оформленное в образ онтологическое междуцарствие, о котором пишет Фишер) требует политического решения в виде экологической политики и пацифизма.
Теперь возникает вопрос: а чем же тогда отличается жанр «причудливой прозы» от описанного выше модуса? Разве там наблюдатель не имеет дело с «тайным»?
Щупальца манифа
Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к образу осьминога или кальмара, как это сделал Чайна Мьевиль в статье «М. Р. Джеймс и квантовый вампир». В ней фантаст прослеживает, как с середины XIX века в литературе менялся кальмар. Если изначально (то есть у Жюля Верна и Виктора Гюго) гигантский кальмар символизировал порядок, противный божественному, заведомое зло, а в «Песнях Мальдорора» Лотреамон выводит кальмара как прямого соперника Бога, то со временем кальмар лишается люциферианских черт. Уже в «Морских пиратах» Герберта Уэллса цефалопод предстает обычным морским животным, просто огромным. Уже Лавкрафт в самом знаменитом своем рассказе «Зов Ктулху» наделяет Древнего бога чертами осьминога — головой с щупальцами — и всячески освобождает образ этого животного от трактовок в христианском духе: Древние предстают у Лавкрафта злом лишь постольку, поскольку человеку не понять их целей и мотиваций. В конце статьи Мьевиль предполагает, что идеальным символом «причудливой прозы» стал бы человеческий череп в кольце щупалец: образ, одновременно внушающий изумление и ужас.
Нетрудно заметить, что при всей удивительной форме ни осьминог, ни гигантский кальмар не являются таинственными в том смысле, в каком я ранее обозначил «модус таинственного». Да, нас может удивлять высокий интеллект осьминогов или способность определять вкус предмета тысячами вкусовых рецепторов на щупальцах, но осьминоги и кальмары — животные хорошо изученные и никоим образом не подрывающие наши знания о мире.

В романе «Борн» (2017) Джеффа Вандермеера мусорщики Рейчел и Вик зарабатывают сбором технологического мусора на остатках безымянного Города много десятилетий спустя после неизвестной глобальной катастрофы. Город поделен между враждующими фракциями: Компанией — корпорацией, производящей биотехнологическое оружие, по сути, разумных существ, — подчас гибриды человека и животных; гигантским летающим медведем Мордом, бывшим когда-то сотрудником Компании, и его «последышами»; и чародейкой Морокуньей, командующей армией мутировавших детей. Во время одной из вылазок Рейчел обнаруживает существо, отдаленно напоминающее кальмара, и дает ему кров. Существо под названием Борн стремительно растет: оно может принимать любую форму, быстро обучается и при этом способно заимствовать облик у поглощенных существ. Рейчел удается наладить контакт и вести осмысленные разговоры с Борном, но полного понимания им достигнуть не удастся: Борн не является ни личностью в привычном смысле слова, ни очередным биотехом; он — нечто среднее, нечто причудливое. Рейчел трудно смириться со стремительным взрослением Борна, к которому она относится, как к приемному ребенку, и с его потребностью убивать, — но в том-то и дело, что как причудливое существо Борн не может отказаться от поглощения людей и животных и не может перестать рефлексировать об этом. Показательна и эмблематична для «причудливой прозы» одна из последних сцен в романе, словно пришедшая из кайдзю-фильмов8: гигантский кальмар Борн сражается с гигантским медведем Мордом, при этом если Борн — почти сформировавшаяся личность, то Морд — деградировавшая личность ученого, утратившего остатки человечности. Этот бой предполагает недоступное современному читателю измерение науки: науки сверхфантастической, очищенной от норм этики, но — все же, возможной. (Уже сегодня проводятся эксперименты с редактированием генома человека, пусть пока и неудачные).
В «Последних днях Нового Парижа» Чайны Мьевиля сюрреалистам из числа бойцов Сопротивления удается взорвать в центре Парижа С‑бомбу — оружие, высвобождающее образы-манифестации («манифы») из произведений авторов сюрреалистического направления. При этом у нацистов имеются свои манифы, а кроме того, они экспериментируют, сращивая людей и манифов в единые монструозные организмы, которые служат оккупантам в качестве живого оружия. Роман Мьевиля куда дальше уходит от научных и природных констант, — и все же в его романе Париж остается Парижем, несмотря на разгуливающих по нему манифов-слонов на длинных ногах с картин Сальвадора Дали. Модус таинственного проявляется в «Последних днях Нового Парижа», но не через фантастических манифов (гигантские иллюминированные театральные маски на улицах Москвы, положим, не менее сюрреалистичны), а через собственно взрыв С‑бомбы: он образовывает темпоральный вихрь, в котором взрыв «происходил, происходит, будет происходить». Впрочем, автор не заостряет внимание на эффектах такого взрыва.
Итак, в «причудливой прозе» законы науки и этики приостанавливаются, но не до конца: не возникает «временных петель», разрывов в ткани пространства-времени и прочих сверхъестественных аномалий, которые ассоциируются с «модусом таинственного». Есть ли категория литературы, к которой можно такой жанр отнести?
Кажется, именно ее описал Квентин Мейясу в своей небольшой лекции «Метафизика и вненаучная фантастика». В ней Мейясу задается вопросом: можно ли описать в литературе мир из мысленного эксперимента Дэвида Юма, в котором философ предполагал — ничто из нашего опыта или теории не дает возможности с полной уверенностью сказать, что пущенный ударом бильярдный шар не полетит по совершенно непредсказуемой траектории или вообще не исчезнет в воздухе. Придя к выводу, что такое развитие событий бы ставило под сомнение все связи предметов материального мира друг с другом, — что случилось бы с бильярдным столом, кием, комнатой во вселенной летающих куда угодно шаров Юма? — Мейясу заключает:
«По всей видимости, только научная фантастика допускает построение связного при всей своей фантастичности сюжета. Действительно, в научной фантастике мы, как правило, попадаем в мир, где физика (теоретическая естественная наука) оказывается иной, но физические законы нельзя просто-напросто считать упраздненными, — в мир, где не может произойти все и что угодно в любой момент и каким угодно образом. Иначе говоря, истории могут выстраиваться потому, что мы все еще имеем дело с мирами, — упорядоченными, пусть и согласно иному порядку, тотальностями. Люди могут действовать в них <…>, так как они по-прежнему могут предвидеть последствия своих действий. Напротив, во вненаучной фантастике, как кажется, не может быть установлен абсолютно никакой порядок и, следовательно, не может быть выстроена никакая история»9.
Дальше Мейясу вводит градацию миров вненаучной фантастики (ВНФ) в зависимости от крепости внутренних причинно-следственных связей в ней. Первый тип миров допускает «беспричинные события, но только такие, которые случаются слишком редко и слишком «спазматически», чтобы подвергнуть угрозе науку и сознание», при этом регулярное воспроизведение таких событий невозможно. Под эту категорию событий подходит взрыв С‑бомбы в упомянутом романе Мьевиля: хотя происшествие это вне всякого сомнения экстраординарное, законы физики в мире романа оно не отменило: автоматическое оружие, взрывчатка, автомобили функционируют в «Последних днях Нового Парижа» привычным нам образом.

Второй тип миров ВНФ предполагает возникновение регулярных акаузальных событий («вещекатастроф»), которые прекращают действие науки, но при этом не упраздняют сознание. Трилогия «Борна» Вандермеера относится именно к такому типу ВНФ: хотя здесь действуют разумные шпионо-алкожуки и рыбы, песок может принимать форму охранного дрона, а сшитый из кожи птицы плащ может обладать человеческим разумом, сознание как таковое здесь не отменено.
Наконец, в третьем типе миров ВНФ наступает полный распад событий и невозможность выстроить стабильные причинно-следственные связи между явлениями. Сюда можно отнести заключительный роман из трилогии «Борна», «Мертвых астронавтов»: три астронавта направляются в Город, чтобы уничтожить Компанию, при этом астронавты существуют одновременно в нескольких измерениях, способны в мгновение ока перемещаться между альтернативными вселенными, создавать себе клонов и побеждать их, наблюдать несколько временных слоев одновременно и так далее, а любое разумное существо может обратиться другим разумным существом.
Характерно, что именно в третьем романе последней трилогии Вандермеера чувствуется «модус таинственного»: связь времен и пространств распалась настолько, что «онтологическое междуцарствие» осталось по сути единственной осязаемой константой. Тут происходит момент перехода от «причудливой прозы» к «модусу таинственного», который лишний раз подчеркивает разницу между этими двумя категориями «вирда». Напротив, третий сезон сериала «Твин Пикс», хотя и безусловно таинственный, в классификацию Мейясу совершенно не вписывается, поскольку описывает столкновение двух миров — мира духов и мира людей, если сильно упрощать, — которое оказывает влияние на оба этих мира. Категории научного и вненаучного здесь прекращают свое действие — то, что мы не наблюдаем в «причудливой прозе».
Напоследок стоит обратиться к фигуре, с которой обычно начинают разговор о «таинственном» — к Лавкрафту. Как в его прозе соотносятся «модус таинственного» и «причудливая проза»? На первый взгляд, мы наблюдаем смешение категорий, но на самом деле такое происходит не в каждом его тексте. Вдохновленное романами лорда Дансени фэнтези «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» само по себе весьма таинственно — как в темпоральном, так и в пространственном смысле, — однако ничего «причудливого» в смысле исковерканных эффектов материи там не происходит. Напротив, «Зов Ктулху» — удивительно лишенное тайны произведение, в котором Древнего инопланетного бога убивают, протаранив его рыбацкой лодкой. Тривиальная гибель чудовища хотя и не снимает эффект удивления его монструозными пропорциями, но не оставляет места для какой-либо тайны.
Случаи сочетания двух категорий «вирда» в прозе Лавкрафта происходят, когда онтологический разрыв ведет за собой изменения научных основ и причинно-следственных связей, как в результате падения метеорита в «Цвете из иных миров», так и после прохождения героя через портал в «Серебряном ключе»: Рэндольф Картер наблюдает сугубо материальных Древних богов и одновременно обретает способность перемещаться во времени.

Сам того не ведая, Лавкрафт сыграл роль литературного алхимика: разложив «таинственное» на две категории, он соединял их, чтобы потом они разложились вновь. И уже его последователи, а также производители игрушек, видео- и настольных игр использовали Cthulhu Mythos (мифы Ктулху), чтобы создать по-настоящему впечатляющие причудливые миры, в которых не осталось ничего от таинственной атмосферы оригинала.
С другой стороны, кто откажется пострелять из револьвера по древним неописуемым существам с Плутона? Линч вам такой возможности не даст.
Автор Сергей Лебеденко
Редактор Дмитрий Хаустов
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Харман Г. Weird-реализм: Лавкрафт и философия / пер. с англ. Г. Коломийца и П. Хановой. — Пермь: Гиле Пресс, 2020. С. 141
- Цвет иного мира / пер. с англ. О. Колесникова // Лавкрафт Г.Ф. Затаившийся страх. — М.: АСТ, 2016. С. 219
- Fisher M. The Weird and The Eerie. — Repeater Books, 2016. P. 9.
- Ibid. P. 15
- Ibid. P. 15–16
- Ibid. P. 50.
- Период в истории Великобритании с 1811 по 1820 годы. В течение этого времени принц-регент, в будущем король Георг IV, правил государством по причине недееспособности своего отца Георга III.
- Жанр фильмов, в котором гигантские чудовища сражаются друг с другом на фоне урбанистического ландшафта. От яп. «кайдзю» — «монстр», «странный зверь».
- Мейясу К. Метафизика и вненаучная фантастика / пер. с фр. Н. Архипова. — Пермь: Гиле Пресс, 2020. С. 31–32