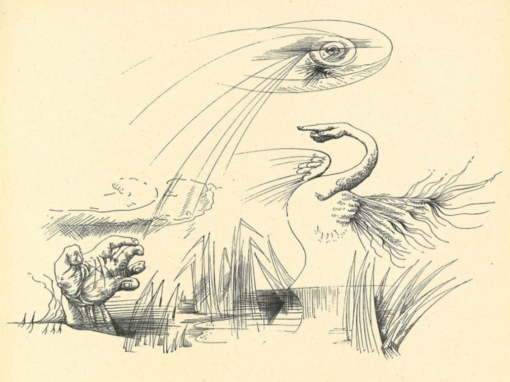Общество изменчиво. А вслед за переменами в нем идут преобразования и в искусстве. Кажется, что это очевидно.
Чем заметнее событие, чем чаще о нем пишут в новостях, тем тяжелее ноша, которая ложится на плечи коллективов и художников-одиночек. Тем больше запрос на публичную рефлексию. Актуальность — дело столь же благородное, сколь и опасное. Новый виток катастрофы на границе России, который начался 24-ого февраля 2022-го года, — событие безусловно заметное. Огромная катастрофа. Страшна она еще и тем, что мало кто может или хочет отгородиться от нее. Попытка не смотреть на происходящее в лучшем случае маркируется как трусость, в худшем — как пособничество агрессору. Конечно, речь идет не просто о возможности говорить или не говорить о происходящем, а об обязанности откликнуться на него.
Пожалуй, это подходящее время, чтобы задаться вопросом, как связаны катастрофа и театр. Не ответили ли мы на него в самом начале, сказав, что театру следует реагировать на общественные события/проблемы, тем более катастрофы, т.к. он ничем не отделен от внешнего мира, он существует в нем наравне с другими родами деятельности: с бизнесом, активизмом, государством? С чего бы театру обладать правом отгородиться от катастрофы?
Такой ответ популярен, и с ним порой сложно спорить. Он требует анализа, т.к. прямая реакция на катастрофу, прямое проговаривание случившегося — действительно один из способов существовать с ней рядом. Впрочем, далеко не единственный. Каждый раз, когда мы прибавляем к действию слово «просто», создается впечатление, что все сложно. Нельзя «просто» откликнуться на катастрофу. Каждое действие распадается на свои свойства и части, и только при отдалении кажется единым и схожим с другим.

В столь известной, сколь и, скорее всего, забытой рецензии Григория Бояджиева «Он ранен так, что виден мозг» на спектакль Питера Брука «Король Лир» 1964 года есть такие слова: «Постановка богата живыми современными ассоциациями: грозовые тучи висят над миром, гремят небеса и воют ветры — и в этом пустынном и холодном мире бьется человеческая душа… Почему при виде этой картины так щемит сердце? Что это — незажившие раны черных лет фашизма? Или боль от чудовищных злодеяний нынешних истребителей свободных народов?»1. Несмотря на некоторую чрезмерность этого описания, сомнений в убедительности его немного. Но сначала проговорим очевидное: «Король Лир» не антифашистский, а уж тем более не антиимпериалистический спектакль.
Тогда к чему вообще сравнение художественного мира «Короля Лира» с событиями двадцатилетней давности или даже с современными Григорию Бояджиеву? Когда закончилась Вторая Мировая война, Питеру Бруку было только двадцать. Сказать, что эта работа — размышление над тяжелым прошлым, тоже было бы не чутко. Однако констатация взаимодействия с катастрофой есть. Не вернее ли сказать, что она воплощена в спектакле, а шире — в театре? Катастрофа прошлого не названа в работе, но она есть язык постановки. Это спектакль, созданный со знанием произошедшего, имеющий его в виду.

Но была ли Вторая мировая война такой катастрофой, которая изменила ход развития театра? Опять же, речь не о его истории, не о перечислении погибших, уехавших, появившихся режиссерах, актерах и зданиях, а о внутренних принципах искусства. В конце концов, идея театра жестокости Антонена Арто, где насилие, доведенное до предела, катастрофа, очищенная от слов, становятся предметом работы, существовала до войны. И именно к ней обратился несколькими годами позже работы над «Королем Лиром» Питер Брук.
А событие вообще происходит?
Катастрофа занимает пространство невыразимого, она в определенном смысле вне мира. Как только мы пытаемся ее осознать, мы расчленяем ее на понятные части. В случае с войной, например, говорим о беженцах отдельно, о взятии/потере населенных пунктов — отдельно, об экономике — так же и так далее. Но ощущаем мы катастрофу как целостное событие, а не просто как сумму частей. Эта природа восприятия катастрофы лучше помогает понять сложность и неоднозначность ее перехода из «внемирного» состояния в театральное. Гжегож Низёлек в книге «Польский театр Катастрофы» пишет: «Речь не идет, однако, о повторении определенной модели опыта, о переживании еще раз “того же самого”. А о том, чтобы ввести этот опыт — благодаря театру и принципу повторения — в область непредвиденных аффективных последствий. Переживание паралича и шока часто описывалось зрителями “Акрополя” Гротовского и “Умершего класса” Кантора как переживание осязаемо реальное и трудно объяснимое […] Гротовский создавал иллюзию акта проработки травмы благодаря силе переживаемого аффекта. Кантор впутывал зрителя в дезориентирующую его систему повторений, в которой возможность проработки прошлого исчезала из поля зрения»2. При этом автор отмечал всю сложность изучения темы массового убийства евреев в Польше не только в театре, но и в искусстве вообще. Можно сказать, что событие переходит в театр а) не сразу, б) не перешло буквально, а порождает художественные практики, существующие в виду случившегося, в) не неизбежно. Последнее важно, так как может создаться впечатление, что сам факт события, а не субъективная деятельность художников, приводит к изменениям в театре, в его способе существования.

Воплощение катастрофы не исчерпывается ее осознанием: на уровне прямого отклика — личным, на уровне существования спектакля ввиду катастрофы — осознанием искусства. Театрализованное действие само по себе может стать событием. Притом и вправду катастрофичным. Неслучайно многие государства использовали форму спектакля для политического акта, как в случае, например, работы советского режиссера Николая Евреинова «Взятие Зимнего», которая не столько воспроизводила известное историческое событие, сколько создавала миф о нем. Тысячи участников этого спектакля были собраны на Дворцовой площади не чтобы проявить себя, а чтобы покориться режиссерскому замыслу, в котором театр побеждает жизнь. Пожалуй, это можно назвать «созданием катастрофы». Иначе говоря взаимодействие театра и катастрофы не исторично. Нельзя установить однозначные связи между событием и реакцией, как это происходит в изучении медиа.
Может сложиться ощущение, что я лишь играю словом «катастрофа», вспоминая его к месту и не к месту. Катастрофа — это не просто тяжелое событие в нашей жизни. Она стоит на пограничье возможного и невозможного. Катастрофы логичны, неотвратимы, в каком-то смысле даже предсказуемы, в них раскрывается мир. От них выстраивают хронологии, вокруг них складывается нарратив. Но одновременно они немыслимы. Каждый раз при попытке их описать у нас остается необъяснимый остаток. Он напоминает нам, что целиком событие представить нельзя. Как случившееся с Россией одновременно исходит из всего, что предшествовало ему, и заставляет смотреть на прошлое, как на путь к нему. Когда мы пытаемся говорить о катастрофе в целом как о явлении, наша мысль распадается на отдельные вопросы морали, экономики, политики, искусства. Владимир Бибихин писал, что язык разбивает мир как сад3. Катастрофа в этом тексте — один из инструментов языка.
Насилие — один из тропов катастрофы, способ ее выражения. Нажать на курок — еще не событие. Более того, тиражирование катастрофы, которым порой занимается театр, в целом существует в русле насилия: как инструмента, темы или целеполагания. Откликаясь на общественный запрос, не суть важно — мнимый или реальный, театр распространяет катастрофу подобно вирусу, лишь иногда предлагая ее безопасное проживание. Вопрос существования насилия, его пребывания в сценическом пространстве в контексте взаимоотношения «театр — катастрофа» — основной. Именно потому что подчинение, подавление, несогласованная агрессия среди героев спектакля и зрителей частично воспроизводит опыт катастрофы немыслимого и единственно возможного одновременно. Подчиненные убедительности произведения, мы чаще согласны с тем или иным насилием. Человек оказывается в том самом состоянии пограничного: между обыденной жизнью, где он защищается, и неким предложенным ему пространством, где ему приходится доверять другим как поводырям, ведь оно не родное ему.

Социологизированное понимание насилия в театре — большая опасность для анализа. Да, спектакль — произведение сообщества. Пожалуй, нигде кроме как в театральном искусстве вопрос социальных правил и практик не проявляется так сильно. Вполне понятно желание уподобить театральный вечер митингу, заседанию в парламенте или просто общению людей. Неслучайно спектакль — одна из самых популярных метафор общества. Более того, сами участники театрального процесса стремятся утвердить свои работы как инструменты политики и социальной жизни в целом. В таких случаях тема насилия, если она возникает, может быть описана словами Ханны Арендт: «Насилие по природе инструментально; подобно всем средствам, оно всегда нуждается в руководстве и оправдании той целью, которой служит. А то, что нуждается в оправдании со стороны чего-либо иного, не может само быть сущностью чего бы то ни было». Оно становится лишь инструментом политического высказывания, где цели выходят за рамки театра как искусства. Само по себе насилие не как практика «угнетения», а как жест, не может существовать в таких работах. Впрочем, это не значит, что произведения, которые создаются в рамках такого видения, не могут быть подвергнуты желаемому анализу. Работы, в которых политическое высказывание декларируется как самоцель, все равно используют театральную рамку, а следовательно подчинены ей, как бы ни пытались утвердить обратное. Сейчас же я просто оговариваю, что используя методы анализа общества, мы можем найти только это общество, а не театр и его особенности. Уподобление спектакля политическим собраниям рубит сук, на котором тот сидит: если существование произведения настолько неотличимо от других социальных практик, то какой смысл в особом интересе к нему? Перефразируя известный силлогизм, спрошу: «Если ключевая тема анализа — смертность всех людей, то так ли важно при изучении действия цикуты знать, что ее выпил Сократ?»
Насилие, о котором я говорю, не учреждает социальный порядок по его же правилам. Если оно и врывается в общественное поле, то есть в пространство, где самоценности театра не существует, то на своих условиях. Насилие в социальном понимании, — говорю лишь о некоторые популярных идеях, — становится частью порядка, а не стоит вне его. Сравним слова о публичной казни двух авторов: Мишеля Фуко и Николая Евреинова. Автор «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» пишет, что эшафот— «ритуал вооруженного закона, где государь проявляет себя нераздельно в двояком образе главы правосудия и военачальника»4. Один из первых театральных философов предлагает иное понимание, говоря, что ключевые элементы театра (место, действие, человек) важны и для«эшафота, на котором происходит действо палача и его жертвы, не считая представителей правосудия и военного народа (курсив мой — В.Н.). Однако возразят, быть может, что действо на подмостках театра и эшафота различны в своей сущности. Никоим образом. Ибо прав Федор Сологуб говоря, что нет других целей для драмы кроме любви и смерти, и быть других не может. Но эта тема (любви к человеку, к жизни) и есть как раз та тема эшафотного действа, которая привлекает к нему жестоких и сострадательных (я напираю на слово “сострадательных”), но совершенно равнодушных к эстетической орнаментике зрителей»5.
Перформативность насилия у Мишеля Фуко существует в контексте социального порядка. Вопрос зрелищности, а точнее ее эффекта на людей, не существует без авторства, а следовательно без фигуры короля, то есть государства. В выделенном мной отрывке Николай Евреинов прямо отрицает контекст государственных лиц (военных, судей), они — ненужное обрамления для процесса. Они не приводят в действие механизм насилия как самостоятельного зрелища, раскрывающего человека. Пожалуй, ту же самую роль выполняют и полицейские в зданиях современных театров, приглашенные на спектакль или явившиеся без спроса. Принципиально здесь еще и то, что «эстетическое равнодушие» зрителей публичной пытки или казни для Николая Евреинова тоже не становится помехой для театрального восприятия. Насилие не вопрос вкуса, категорий красоты, соответствия правилам создания сюжета. Оно само по себе сюжет. Категория участия (у Евреинова — «сострадательности») здесь определяющая. Насилие в театре — это не каталог методов издевательства над телом, моралью или психикой. Это все есть и в бытовой жизни. Скорее насилие раскрывает природу театра как языка, «стоящего на полпути от жеста к мысли» (Антонен Арто6).

«Жестокие и сострадательные», — так описывает зрителей эшафота-театра Евреинов. На первый взгляд, противоречие это известно со времен работы «Парадокс об актере» Дидро. Дидро как раз и выделяет два типа отношений к действующим лицам в театре. Первый, семиотический, позволяет видеть нам на сцене не человека, а героя. Без второго, фактического, мы бы не смогли увидеть этого героя в реальном воплощении: мимо нас бы прошла дрожь голоса актера, пот на его щеке, осознание, что он человек, подобный нам, не посещало бы нашу голову. Между этими отношениями есть некий зазор: где кончается знак и начинается тело. Мы же не бежим на сцену спасать Дездемону от смерти, хотя сочувствуем ей, понимая при этом, что она — знак, роль, героиня, которой положено умереть. Потому нас нельзя назвать жестокими. Евреинов же своих зрителей почему-то называет такими. Если бы речь шла о банальной радости насилию над другим, то слово «сострадающие» было бы лишним.
Это противоречие мнимое, хотя и правда выбивается из общего стройного рассуждения. Самым глупым было бы сказать, что характеристики «сострадающие» и «жестокие» относятся именно к эшафоту, а не к театру. Ведь Евреинов намеренно опускает все различия этих явлений и подчеркивает только схожести, по которым можно увидеть их общую родовую принадлежность. Зрители жестоки хотя бы потому, что хотят смотреть на сцену насилия, делают ее возможной, их к этому не принуждают. Но если бы они не могли сострадать, то сцены просто бы не было. Сострадание, проживание момента и создают пространство спектакля, делают казнь публичным общим опытом, а не растиражированным частным. В это переживание входит не только внимание к истории казненного, но и знание, что ей внимают еще десятки человек. Все зрители причастны к этому опыту, подсказывая друг другу реакции, настроения, напоминая о том, что они в публичном пространстве. В этом контексте нет одного смотрящего, есть только зал. При этом очевидно, что вряд ли идет речь просто о сострадании жертве, хотя и это тоже. Скорее, главный акцент здесь на ощущении действа как такового. Те самые сюжеты любви и смерти, которые упоминает Евреинов.

Но есть у этого положения «сострадающего» и «жестокого» и другой пласт, усиливающий напряжение между ними. Зараженный человек ведь тоже одновременно и жертва, и потенциальная угроза. Отличие зрителя от больного здесь только в том, что он «выбирает» себе недуг. Желание насилия над собой, катастрофического самоощущения, и способность передавать его сближает зрителя с актером. Антонен Арто писал: «Чума завладевает спящими образами, скрытым хаосом и неожиданно толкает их на крайние действия. Театр, в свою очередь, тоже завладевает действием и доводит его до предела. Как и чума, он восстанавливает связь между тем, что есть, и тем, чего нет, между тем, что возможно, и тем, что существует в материальной природе. Он вновь обретает понимание образов и символов-типов (symboles-types), которые действуют как внезапная пауза, как пик оргии, как зажим артерии, как зов жизненных соков, как лихорадочное мелькание образов в мозгу человека, когда его резко разбудят. Все конфликты, которые в нас дремлют, театр возвращает нам вместе со всеми их движущими силами, он называет эти силы по имени, и мы с радостью узнаем в них символы»7. «Бесполезность» — слово, в котором для Арто сходится агония зачумленного и работа актера. Зрительская жестокость тем яснее, что она в сущности ничем не оправдана, да и не должна быть таковой. Иначе бы она превратилась в целесообразность.
Описание территории катастрофы Антонена Арто в работе «Театр и его двойник» подсказывает нам не только то общее напряжение участников спектакля, то есть зрителей и труппы, но и то, что театр способен сам создавать такое пространство. Выше я уже отмечал, что разрабатывание темы катастрофы в театре далеко не всегда исторично. Очевидный общественный кризис может пройти незамеченным для сцены. Так произошло с чеченскими войнами и театром. Не в том смысле, что о нем не будет спектаклей в момент разгара конфликта. Просто эти работы по своему существу будут мало отличаться от постановок на другие темы. Антонен Арто наводит на мысль, что и театр может врываться на общественные подмостки, раз он сам себе может создать катастрофу. Отказывая сцене в возможности быть кафедрой, местом дискуссий, Арто предлагает ей антропологический смысл, которой уже не может быть удержан хрупкими стенами сугубо эстетического мышления, где бессмысленная красота — это услада для глаз, а не вызов человеческой природе.

Катастрофа в этой работе будет рассматриваться в свете описанных только что вопросов: проблемы прямого политического высказывания, проблемы воплощения внутри театра катастрофы и проблемы того, как она «вырывается» за пределы подмостков. Тема реализации насилия в спектаклях как тропа станет своеобразным проводником между этими состояниями, так как, очистив его от социологизирующего толкования, я вижу в нем возможность говорить как о дискурсивных практиках в конкретных работах, так и о их физическом, самоозначающем воплощении. Это не механизм движения, который при должном усилии перенесет нас из пространства политического высказывания во внутренне-театральное. Скорее насилие — точка схода на горизонте во многом параллельных процессов, в которых можно увидеть обращение к теме катастрофы.
В ожидании события: особенности довоенного политического театра
Политическое высказывание в театре — один из наиболее заметных способов говорить о событии в обозначенном выше смысле слова. Перед тем как поговорить о конкретной реализации такого высказывания в контексте войны, стоит обозначить некоторые наиболее общие инструменты его производства.
Во-первых, политическое высказывание существует в дискурсе «снятия» театра, в его пассивном отрицании. Формалистские практики авангарда активно обнажали саму природу драматического искусства, снижая ее до механизма. Например, подчеркивая условность происходящего на сцене с помощью отстраненной актерской игры, демонстрируя машинерию, деконстуируя драматическое повестовование. Политическое высказывание в современных условиях существует как раз в пассивном отрицании театра. Если о приемах Всеволода Мейерхольда можно сказать «смотрите: это театр, а не жизнь», то эти практики существуют под лозунгом «мы вообще не театр». Это не значит, что в политическом высказывании не используются традиционные для театра инструменты: драматический текст, актерская игра, сценография. Лучше сказать, что они лишь инструменты для политической акции. Пусть высказывание и порождается внутри театрального фрейма, оно как будто бы вырывается из него, делает его для зрителя ненужным и неважным. Политическое высказывание, осознанное как действие, совершается или не совершается независимо от театральной условности. Подчеркнем, что речь не о фактическом положении дел, а о специфическом способе легитимации в искусстве.
Во-вторых, такое высказывание подразумевает встречу с реципиентом как «собрание» и прямое взаимодействие. Пришедший здесь становится не просто зрителем, но со-участником, bystander. Именно благодаря нему спектакль вообще становится возможным. Он учреждает пространство высказывания. Здесь уместно вспомнить о зрителях эшафота у Николая Евреинова, которые своим взглядом и отношением созидают из факта государственных репрессий театр. Жестокость аудитории реализуется в жажде увидеть/узнать факт репрессий, насилия. Это самоценное желание. Сострадательность же позволяет создать из него сообщество, критически осмысляющее мир.

Со-участники создают «волшебный круг», в котором существует политическая постановка. Правда, важное отличие этого пространства от пространства игры в том, что даже после выхода из него (после конца спектакля) оно ощущается как реальное.
Такой эффект создается не только за счет пассивного «снятия» театральной условности, но и благодаря теме спектакля. Как правило, это насущные социальные проблемы: пытки, сексизм, прекарность, репрессии, а сейчас — война и порожденные ею темы. Но вопрос здесь не только в самом факте темы, но и в логике ее демонстрации. «Дать голос исключенным» — вот принцип работы с ней. Темы сами по себе реальны, но не существующие в медийном поле. Театр их как бы выводит на свет, политическое высказывание становится действием. Спектакль по своему устройству — это искусство быть на виду. Обращаясь к социальным проблемам, театр дает им ту самую видимость, присваивая реальность, подражая политической борьбе за права угнетенных.
Такая легитимация порождает специфическую материальность политического высказывания в театре. С одной стороны, оно реально, оно ощущается как наличествующее наравне с другими акциями (митингами, судами, пикетами), с другой — оно существует только как ответ на достаточно специфическую ситуацию. Условия ее таковы, что проблема, о которой и появляется высказывание, скрыта, но существует физическая возможность ее раскрыть с помощью театра. Это возможно при определенной мягкости или предусмотрительности государственного принуждения. Правда, тогда может показаться, что театральный способ политического высказывания ничем не отличается от привычной логики СМИ. Однако это не так. Акт раскрытия проблемы в спектакле становится действием, так как отсылает к тому, что эту проблему не проговаривают, а физически устраняют из медиа-поля (не видно, значит и нет). Для СМИ такая оппозиция не обязательна. Материальность политического высказывания в театре создается благодаря тому, что оно выстраивается как равноправный с государственным принуждением отклик на него.
Эта на первый взгляд достаточно формальная особенность материальности политического высказывания порождает и специфический вид доминирующего аффекта. Это пафос. Его достаточно условно можно называть героическим, так как все-таки нам привычнее называть героем того, кто совершает подвиг и своим примером побуждает нас сделать что-то. В нашем же случае этот пафос отсылает к уже осуществленным или длящемуся действиям, то есть постановке и просмотру спектакля, ведь он и есть само действие. Эта условная героичность так же обращается к интонации «срывания покровов». Проговаривание как действие воплощено не просто как формальная предпосылка, но как потаенная самоцель постановки. Становится привычным называть такое положение вещей «перформативностью», однако такая характеристика представляется слишком рискованной, если не сказать неверной. Во-первых, перформативность существует в логике самостоятельного учреждения себя, а не в ситуации отклика, это ее и отличает от конвенционального существования произведений, мир которых защищают внешние силы (социальный порядок, декорум). Во-вторых, перформативность в театре, как отметила Эрика Фишер-Лихте, существует на границе феноменального и семиотического8. А ведь как раз пассивное «снятие» театра уничтожает эти противоречия, создавая иной вид материальности. И это не столько ошибка конкретной работы, сколько насущная необходимость для политического высказывания.

Спектакль «Груз 300» — пример того, как довести до окончательного развития обозначенные свойства современного политического театра. Даже если говорить о наиболее общих формальных элементах, эта постановка пытается вместить в себя опыт предыдущих лет развития театра в России. Первая часть спектакля строится вокруг документальных свидетельств о пытках. Судя по заявлениям создатель_ниц «Груза 300», здесь вполне уверенно можно говорить о «героическом пафосе» и «срывании покровов». Вторая же часть — игра «Шафка», в которой зрители разделяются на командующих и подчиняющихся, — как раз обращается к идее соучастия и «иммерсивности». Более того, даже те, кто отказывались участвовать в жестокой игре, оставались выполнять свою роль bystanders: условием неучастия было то, что зрители будут держать табличку «Я просто смотрю на насилие». Третья часть спектакля строилась на обсуждении проблемы пыток и спектакля перформерами и зрителями. Иначе говоря, основные практики «Груза 300» активизируют такие понятия как «форум», «соучастие», «героический пафос». Продолжает он и традицию обращения к насилию в российском театре последних лет. Она активно стала развиваться в период так называемой «новой драмы», когда под призывы о демонстрации подлинной, настоящей жизни драматурги и режиссеры выводили на сцену людей, едва ли умеющих разговаривать иначе, как с помощью вербальной агрессии, а привычка к насилию стала главным объединяющим фактором. Исследователи Марк Липовецкий и Бергит Боймерс писали: «Однако именно мат — как язык агрессии и реакции на насилие — объединяет в документальном театре такие разъединенные субкультуры, как, допустим, миры заключенных, бездомных, нелегальных иммигрантов — и корпоративных менеджеров, телевизионных продюсеров и геев. Ненормативная лексика выступает в качестве общего знаменателя, в сущности, единственного метаязыка современной России»9. Можно подумать, что сама тема пыток и социальной критики приводит к такому повышенному вниманию к насилию, как в «Грузе 300». Кажется, что агрессия — лишь проводник авторского критического нарратива, однако это не совсем так. Насилие — сам способ коммуникации, попытка воплощения катастрофы, специфической материальности политического театра. Неслучайно Ильмира Болотян отмечала, что опыт участия в спектакле носит откровенно садо-мазохистский характер. Подобное сексуальное желание замыкается на себе и не обозначает ничего. Выхолощенная категория власти в таком случае показывает себя как эссенциальная, то есть как недвижимая и внеисторичная, что в каком-то смысле даже конфликтует с изначальными установками создателей спектакля. Вряд ли их цель состояла в своеобразном повторе психологических экспериментов в духе «стенфордского».
Я обратился к этому спектаклю, чтобы подчеркнуть изменения актуальных работ и показать их особенности и развитие политического театра. «Груз 300» будет оттенять их как наиболее яркий пример прошлого этапа.

Событие произошло: опыт войны и театр
А почему, собственно, новые работы в русле политического театра должны разительно отличаться от «Груза 300»? Речь, конечно, не о творческой индивидуальности каждого произведения, но об их родовых чертах. Дело в том, что, как мы помним, логика политического театра реактивна, существует в форме воплощенного в сценическом пространстве ответа на репрессивные практики государства. С 24-ого февраля 2022-го года именно возможность физически воплощать высказывания резко снизилась. Государство уничтожило привычные площадки для таких опытов, ввело новые репрессивные законы, цель которых как раз в недопущении подобных высказываний. Многие художники и зрители были вынуждены уехать из страны. Это сделало невозможным тот род материальности и соприсутствия, который активно эксплуатировался политическим театром до этого.
В то же время происходящее медиафицировано. Ежедневные, а порой и ежечасные новости о движениях войск, бомбежках, разрушениях, репрессиях не просто транслируются разными СМИ и блогами, но и тянут за собой множество личных история очевидцев, высказываний властей и экспертов. Пьеса не написана, а спектакль по ней уже идет. Это осложняет создание того самого «героического пафоса» и «срывания покровов», ведь кажется, что все уже на виду. Еще один аспект политического театра должен был быть перепридуман, так как стал невозможным в актуальной ситуации.

К ситуации в театре после 24 февраля можно подойти с точки зрения, которую предложила Кети Чухров в статье «О либидальных и клинических предпосылках отринутой эсхатологии». Говоря о пандемии коронавируса, философка отмечает: «Новая социоэкономическая потенциальность крушения либидальной экономики (этого горючего капиталистического производства) возникла сегодня благодаря не политическим действиям, а фатальной неизбежности новой биоэкологической ситуации. Несмотря на то, что определенные типы потребления перешли в виртуальную экономику — с монетизацией сетевого пространства в период первых локдаунов возникло четкое предчувствие того, что основное соотношение спроса и предложения в постпандемической экономике должно измениться, урезая излишки привычных форм потребления». Попытка найти «базовое», морально допустимое медиаприсутствие коснулась не только социальных сетей, где многие пользователи, сайты и проекты ушли в молчание на несколько месяцев, но и искусства. На театр люди, травмированные происходящим, смотрели как на избыточность, проявление либидального, пусть и в рамках искусства. Критика позиции «искусства ради искусства» в условиях войны исходила не только из известной левой предпосылки о том, что все есть политика, но и из подозрения к искусству как продукту самостоятельных желаний, не зараженных скорбью. В момент, когда огромность события подталкивает к самоограничению, театр кажется оскорбительным.
Масштаб события тем самым дважды нарушает возможность называния. Во-первых, когда занимает все медиа-пространство, внушая позицию «а что тут еще можно сказать?». Во-вторых, пугая объемом и невыразимостью. Эти формы контакта подпитывают друг друга. Чем более событие тиражируется, тем более заметна недостаточность инструментов описания и разочарование; чем больше боль от невозможности сказать, тем больше желания пробиться через эту границу гремящего молчания.
В таких условиях «снятие театра» обретает новый смысл. Теперь это не только «демократическая» практика, которая дает зрителю беспрепятственно воспринимать спектакль, а авторам — не утруждать себя созданием «иллюзии». Такой стиль теперь как будто бы морально оправдан. Он позволяет окончательно передать голос документу, который сам способен свидетельствовать перед аудиторией о жертвах войны, тогда как авторы спектакля превращаются в аскетичных трансляторов информации. Такой аскетизм сродни религиозному.
Но вот другие особенности политического театра оказались разрушены. Рамка спектакля, которой часто пользовались художники, чтобы установить трибуну и произвести высказывания, перестала работать. И зрители, и руководство театров, и государство, а, возможно, и сами авторы стали ощущать, что критическое высказывание о современности сейчас — это и правда политика без всяких кавычек, а потому несет все опасности военного времени. Конечно, репрессии художников были и раньше, но с 2022-го они вышли на новый уровень демонстративного запугивания. Из-за этого возможность создавать «сообщества» и «общие пространства» совместно с аудиторией просто исчезла. Как она может возникнуть, когда и зрители, и авторы уезжают из страны, площадки закрываются, а существующая инфраструктура театра зачищается?

Это потребовало поиска других способов коммуникации авторов и аудитории. Пожалуй, задача создания нового пространства — наиболее сложная, и его особенности в таких условиях заслуживают отдельной работы. Нам же достаточно проговорить, что выходом стал интернет и создание цифрового контента. Создание опыта спектакля в сети во многом сложнее, чем в физической реальности. Разница здесь такая же, как между тем, как ходить самому, и как научить двигаться виртуальную модель. Наша природа и привычка помогают нам не думать о таком, но при создании, например, видеоигры каждое движение должно быть сознательно инициировано и прописано. То же в театре. Ощущение зала, собрания возникает в физической реальности без особых проблем, а вот в сети его нужно каким-то образом конструировать или осмыслять его отсутствие. «Груз 300» атаковал зрителя, используя привычные практики, превращая их в оружие, в интернете это невозможно. Сайт-специфичность искусства не в том, что оно связано с местом существования, но в том, что оно к нему прилажено, то есть сделано так, чтобы «помещаться» только в нем, пытаться его понять, найти свое пространство и единство в этом месте. Для этого недостаточно сюжета о месте.
Получается, что единственным не только сохранившимся, но и возросшим в цене элементе политического театра стало его «снятие». При этом встает вопрос, с помощью какой интонации ему существовать. Это не значит, что нет должного материала для работы, но нет средств коммуникации для передачи этого материала. Важно не только то, что что-то упало, но и сам грохот от падения. Очевидно, что «пафос срывания покровов» в новых условиях работает плохо. Когда медиапространство буквально заполнено контентом о войне, театр вряд ли может кого-то шокировать новой подробностью. Здесь привычка к документальному играет против авторов. В этом случае проблематизируется понятие «немоты», невозможность рассказать о событиях. Но «немота» в рамках «снятия театра» превращается в ноль, в несамостоятельность. Немота проговаривается, но не воплощается. Другая форма «немоты» — это Иное. С его помощью мы получаем довольно безопасный язык разговора о катастрофе, как бы отзеркаливая ее, создавая для нее непривычную, может даже нарочито неподходящую форму. Чтобы сказать о смерти, приходится говорить о жизни, чтобы сказать о войне — нужно говорить о мире. Разделить эти два вида немоты можно так: в первом она — предпосылка высказывания, а во втором — тема. Теперь посмотрим, как эти стратегии могут реализовываться на практике.
Проект «Театр сопротивления» возник в 2022 году. Официального списка создателей нет, и такая мера предосторожности понятна. «Театр сопротивления» — скорее платформа поддержки онлайн-проектов и спектаклей на дружественных заграничных площадках. Первый опен-колл состоялся осенью; пока новые проекты проходят отбор, уже можно рассказать о некоторых результатах работы платформы.
Аудиоспектакль «Женщины в темноте» посвящен жизни в Украине осенью-зимой 2022 года. Сама постановка — работа театральной компании Fulcro и «Театра сопротивления» по одноименной пьесе Маши Денисовой и Ирины Серебряковой. Формально спектакль очень аскетичен: две актрисы (Катя Тихонова и Даша Дельман) читают текст, явный сюжет отсутствует. Нет звуковых эффектов, только тихая фоновая музыка. Пожалуй, если бы не название спектакля в начале записи и не колыбельная в конце, можно было бы подумать, что это просто подкаст. В нем кратко рассказывают о том, что переживают украинки. Текст пьесы, да и ее исполнение, подражает документальной эстетике — бедностью оформления и интонаций, акцентом на свидетельских показаниях и бытовых историях. В то же время нет и попытки создать иллюзию: даже героини спектакля — это актриса 1 и актриса 2. Более того, пусть в записи этих строк нет, пьеса начинается с характерного диалога:
Актриса 2. Вот пьеса. Берем и ставим.
Актриса 2 ставит лист на стол вертикально. Лист падает. Актриса пробует несколько раз.
Актриса 1. Не стоит.
Актриса 2. Не ставится. Наверное, потому что слишком в лоб.
Актриса 1. Наверное, потому что темно.
Актриса 2. Тогда я просто расскажу тебе. Я здесь, а ты далеко. Но я расскажу как могу. Вдруг ты поймешь.

Невозможность художественно отрефлексировать происходящее — отправная точка спектакля. Наверное, эту мысль он лучше всего и иллюстрирует.
Спектакль напоминает новостной выпуск. Событие настолько значительно, что создатели не решаются перенести его окончательно в художественную плоскость. Получается, что спектакль одновременно лишен и непосредственности переживания, которая возникает, когда говорит участник события, и воли автора, использующего свои приемы. Это обостряет проблему памяти в спектакле, попытку запечатлеть произошедшее. Валерий Подорога в книге «Вопрос о вещи: опыты по аналитической антропологии»10 выделяет два горизонта существования вещи. В первом она является сама по себе, обладает собственным смыслом и существованием независимо от нас. Во втором же вещь оказывается зависима от человека, так как именно он ее называет, удерживает в состоянии вещи, не превращая в инструмент, «штуковину» или предмет. Схожие свойства есть и у памяти. Наши воспоминания одновременно и зависят от нас, и самостоятельны. Очевидно, что они не существуют без нас, но мы их не полностью контролируем. Память мучит нас, вторгается в нашу повседневность, мешает спать и жить. В то же время она зависит от человека, в конце концов ее можно просто забыть. Важно, что память отделена от Я, а потому и обладает такой двойственностью.
Когда же тяжелое воспоминание о событии становится художественным произведением, травма тиражируется на зрителей. Спектакль не существует без воспринимающего, но не зависит от него. Но если постановка превращается в документ, она лишается художественных инструментов, которые помогли бы зрителю воспринять воспоминание как свое, а, следовательно, и пережить его. Контрапункта между зависимостью и самостоятельностью не возникает. Документ самодостаточен, а главное свободен от нас. Пролежит сто лет, пока авторы и участники его уже умрут. Поэтому сам по себе он и не обладает способностью обращаться к зрителю. Для этого необходимы отдельные практики, свободные от документальности.

Другая работа «Театра сопротивления» — «Один длинный день». Это тоже аудиоспектакль. Как подчеркивают создатели, весь его текст, за исключением переходов между эпизодами, документален. В нем рассказывается о мирных жителях Украины, о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля и как они учились жить заново. Однако, несмотря на подчеркнутую документальность, «Один длинный день» пользуется большим набором приемов, чем «Женщины в темноте».
Во-первых, в постановке есть и авторский голос, который общается со зрителем. Во-вторых, «Один длинный день» — это спектакль-променад, то есть слушать его нужно во время прогулки. Авторы просили гулять во дворе или по улицам. В‑третьих, для зрителей был создан чат в Telegram, где они могли общаться и делиться фотографиями окружающего. Как же это работает? Спектакль пробует научить человека смотреть на привычный мир взглядом катастрофы. Когда ты слушаешь истории о том, как люди прячутся в подвалах своих домов, а игра во дворе становится опасным делом, неизбежно переносишь это на свою повседневность. А как это могло бы быть в моем дворе? Аудиоспектакль сам создает себе декорации под конкретного человека, а чат становится своеобразным зрительным залом. Мы слушаем о страданиях героев спектакля, находясь в безопасности. Но именно эта отдаленность и помогает нам если не понять, то хотя бы проявить сочувствие. Эти постановки — не единственные, хотя и яркие примеры развития определенного вида театра политического высказывания, который развивался в России последние 9 лет, после 2014-го года. Рискну предположить, что в существующих условиях это максимально достижимый для него результат. Не в смысле технического совершенства или масштаба, а в типологических свойствах. Неочевидно, как можно вернуться к привычным моделям построения сообщества, материальности и интонацииям, которые считались не только смелыми, но и морально верными. Перед нынешним театром стоит проблема более сложная: воплощение катастрофы. Пока отрефлексирован только этап, когда театр или ищет ей аналогии, художественные средства прошлого, чтобы создать дистанцию, или осмысляет свою неспособность говорить о ней. Немота как тема и предпосылка не позволяет даже задуматься о том, чтобы воплотить катастрофу на сцене. Но в каких направлениях может развиваться дорога к этому? Как раз в трех обозначенных выше: вопрос зрителя (на место «сообщества» нужно найти что-то другое, например, собрание свидетелей, наподобие зрителей в театре Гротовского), вопрос материальности (вместо снятия — утверждение) и вопрос интонации. Как это будет происходить, покажет время. Возможно, ничего и не будет. Питер Брук в книге «Пустое пространство» писал: «Когда мы говорим “неживой театр”, мы вовсе не имеем в виду театр, прекративший свое существование, мы подразумеваем театр гнетуще активный и в силу своей активности способный стать иным. Чтобы сделать первый шаг на этом пути, нужно взглянуть в лицо простому и неприятному факту: слово “театр” утратило свой первоначальный смысл; то, что мы теперь обозначаем этим словом, в большинстве случаев является пародией на театр. Война или мир, исполинский фургон культуры безостановочно катится вперед и доставляет на свалку, которая все растет и растет, большие и малые достижения каждого из нас»11.

Об ограничениях
Очевидно, что у горизонта этой работы есть множество ограничений. Во-первых, цель ее не в том, чтобы подсчитать все возможные спектакли, которые касаются темы войны и катастрофы вообще. Прежде всего потому, что некоторые из них лишь продолжают художественную матрицу конкретного автора (как, например, спектакль «Вишневый сад» Дмитрия Крымова в США). Во-вторых, потому что существование в эзоповом языке множества работ не позволяет напрямую отнести их к конкретной проблеме. В‑третьих, в условиях огромного театрального пространства попытка каталогизации не только вряд ли возможна, но и скорее всего бессмысленна, так как уничтожит своеобразие конкретного места и его произведения. В конце концов есть еще и «партизанский театр», который часто скрыт от взгляда посторонних. Цель этого текста — кратко обозначить возможную логику работы с катастрофой и войной, отталкиваясь от того, что уже было в театральной традиции, которая бы позволила рассматривать новые проекты в должном контексте. Иначе говоря, она отчасти исторична, а отчасти напоминает практику «идеальных типов», которую предложил социолог Макс Вебер12. Сдвиг в искусстве происходит не только потому, что возникает небывалое произведение, которое нас возвращает в утраченную точку восторга, но еще и из-за появления навыка пользоваться этой возможностью. В каком-то смысле справедливо сказать, что театр в условиях войны не существует без теории времен войны.
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М.: Просвещение, 1981. С.123.
- Низелек Г. Польский театр катастрофы. — М.: Новое литературное обозрение 2021. С. 74.
- Бибихин В. Язык философии. — М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 96.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. — М.: Ad Marginem, 1999. С. 75.
- Цит. по: Мнемозина: Документы и факты из истории русского театра XX века. [Вып. 1] / Сост. и общ. ред. В. В. Иванов. — М.: Гитис, 1996. С. 28.
- Арто А. Театр и его двойник. — М.: Симпозиум. С. 87.
- Там же. С. 110.
- Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. — М.: Международное театральное агентство «Play&Play» — «Канон+», 2015. С. 162.
- Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «Новой драмы» — М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 175.
- Подорога В. Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии. — М.: Грюндриссе, 2016. С. 11.
- Брук П. Пустое пространство. — М.: Прогресс, 1978. С. 32.
- Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990. С. 389.