Мы живем в мире, перенасыщенном насилием. Такие слова, как «террор» и «террорист», вошли в повседневный детский лексикон. Западные демократии в последнее время допускали или активно участвовали в систематических пытках, секретных удержаниях под стражей и незаконных экстрадикциях. Даже если не акцентировать внимание на недавней войне с терроризмом, мы уже оставили позади тот век, в котором, по некоторым оценкам, по меньшей мере 100 миллионов человек погибли насильственной смертью в мировых войнах, Холокосте, геноцидах, конфликтах и восстаниях1. Как отметила Ханна Арендт2 на первой странице своего теперь уже классического памфлета «О насилии», двадцатый век стал веком войн и революций, а значит и веком насилия как их общего знаменателя.
Хотя сам по себе размах этих событий заставляет нас признать, что вопрос о насилии должен быть ключевым для понимания и диагностики настоящего, всепроникающий характер насилия все же не должен служить причиной для политического пораженчества, облаченного в форму трезвого реализма или многословной аналитики. Скорее, смелость политической мысли должна выражаться в радикальных попытках вообразить и реализовать альтернативу. Даже если в конечном итоге нам пришлось бы принять постоянную возможность насилия как чего-то неотъемлемого для нашей телесной уязвимости, у нас все равно остается выбор противостоять его актуальности. Именно этот выбор и открывает сферу политического: огромное пространство для политического воображения и действия. Мы должны принимать насилие как нашу проблему только в той мере, в какой оно побуждает нас постоянно исследовать это пространство воображения в философской мысли и в политическом действии. Сегодня философская критика насилия важна как никогда прежде.
Фукольдианская критика насилия может многим показаться совершенно иллюзорным проектом. Если есть соблазн полагать, что всякая критика насилия обречена на наивность и беспомощность, то попытка осуществить такую задачу с помощью мысли Фуко выглядит еще более ошибочной. Кажется, что он просто не предлагает нам никаких оснований или инструментов для такой критики. Если социальная критика состоит не только из диагноза, но и из артикуляции ее нормативного обоснования, то подобное эксплицитное обоснование как будто отсутствует в мысли Фуко3. Что касается критической рефлексии о насилии, то ситуация усугубляется тем, что Фуко склонен приравнивать насилие к власти и силе вместо того, чтобы четко различать эти понятия. Это означает, что если мы примем его известную предпосылку о том, что власть присутствует везде — нет ни единого уголка общества, свободного от эффектов власти, — и затем приравняем власть к насилию, то мы окажемся в мире, полностью пронизанном насилием. Поэтому и высказывалось предположение, что мысль Фуко фактически обозначает конец всех критик насилия.

Я бы согласилась с тем, что мысль Фуко действительно обозначает конец всех тех критик насилия, которые проводятся в рамках гуманистической традиции мысли. Пацифистская философия таких великих деятелей двадцатого века, как Мартин Лютер Кинг-младший или Махатма Ганди, к примеру, не только обосновывает свои надежды на ненасильственный мир благосклонностью Высших сил, но также апеллирует к доброте, врожденной человеческой природе4. Такая же вера в доброту человеческой природы лежит и в основе некоторых анархистских критик насилия. Эта вера в естественную доброту человека связана с радикальным отрицанием государства и правительства5. Как раз такой оптимизм Фуко явно не разделяет.
Я предлагаю исследовать возможность фукольдианской, постгуманистической критики насилия, которая приостанавливает все предположения о человеческой природе — как оптимистические, так и пессимистические. Одним из ключевых методологических принципов Фуко было систематическое сомнение во всех антропологических универсалиях:
Первый (методологический выбор) — это систематический скептицизм по отношению ко всем антропологическим универсалиям, но это не означает, что они отвергаются с самого начала, это означает только то, что ничего подобного не должно приниматься, если на то нет строгой необходимости. В сфере нашего знания все, что представляется нам как имеющее универсальную значимость в отношении человеческой природы или применяемых к ней категорий, должно быть проверено и проанализировано <…> Первое методологическое правило <…> таким образом, следующее: в максимально возможной мере обойти антропологические универсалии, чтобы исследовать их в их историческом конституировании6.
Я предлагаю применить этот принцип к проблеме насилия. Мы должны поставить под вопрос все точки зрения, отстаивающие представления о человеческой природе как о злой или доброй, опасной или жестокой: ничего подобного не должно приниматься, если на то нет строгой необходимости. Вместо этого мы должны теоретизировать о политическом насилии через анализ конкретных исторических практик насилия, а не через предположение о его аисторическом основании, гарантированном человеческой природой.
Хотя такая критика, очевидно, по прежнему должна опираться на нормативный идеал ненасилия, этот идеал не обязательно должен проистекать из религии или какого-либо естественного порядка вещей. Вместо этого можно утверждать, что он уже составляет часть исторически и политически сформированной идеи гражданского общества — политического сообщества, избавленного от насилия. Ричард Кин, например, утверждает, что стремление к гражданскому обществу в противоположность негражданскому обществу — типу социального порядка, раздираемого экстремальными формами насилия, — настолько закодировано в нашей исторической традиции, что мы по большей части воспринимаем его как должное7. Следовательно, я бы сказала, что в политических дебатах, вращающихся вокруг вопросов насилия, спорным обычно является не нормативный уровень оправдания, а аналитический уровень диагностики: что в них считается насилием и является ли оно неизбежным.
На этом фоне я вижу две возможные формы, которые могла бы принять фукольдианская критика насилия. Их следует понимать не как две альтернативы или опции, но как два взаимосвязанных аспекта анализа, который радикально историзирует политическое насилие и анализирует его конкретные формы и рациональность.
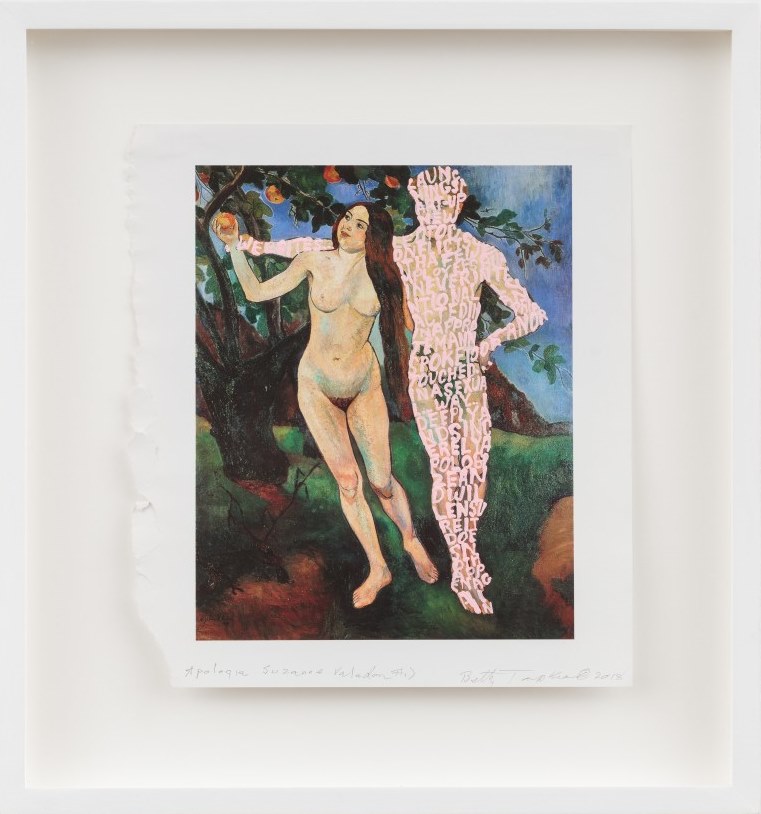
Первую форму можно охарактеризовать как онтологическую критику, хотя в случае Фуко ее следует понимать одновременно и как историческую. Идея тут попросту состоит в том, что любая критика насилия должна предполагать, что рассматриваемая ею форма насилия не является необходимой. Иными словами, чтобы она имела твердый смысл, а не просто выдавала желаемое за действительное, она должна предварительно установить, что политическое насилие является онтологически контингентным.
Я полагаю, как раз в этом онтологическом движении нам и может помочь Фуко. Центральной целью его мысли, философии, понятой как онтология настоящего, было как раз поставить под вопрос онтологическую необходимость многих из тех феноменов, которые мы принимаем как должное. Его генеалогии были нацелены на критическое вопрошание онтологических предпосылок, которые поддерживают наши практики, и одним из его методологических принципов было приостановление всех онтологизирующих политических заявлений посредством попытки «предельной историзации»8. Фукольдианский подход к насилию, таким образом, ставит под сомнение онтологическую необходимость насилия — к примеру, те взгляды, согласно которым насилие является антропологической константой или неотъемлемой чертой человеческой природы, человеческой социальности или политики. В рамках его концепции насилие не может мыслиться в таких терминах, но всегда должно анализироваться как контингентная, исторически специфическая практика. А контингентные практики можно критиковать и, более того, изменять. Фуко предположил, что в мышлении о власти нужно быть номиналистом: «власть — это не институт и не структура; это не определенная сила, которой мы наделены; это имя, которое мы приписываем сложной стратегической ситуации в конкретном обществе»9. Я полагаю, что мы должны пытаться думать о насилии в аналогичных терминах, как об исторически сложившихся практиках с зависящими от контекста рациональностями, целями и средствами. Я утверждаю, что последовательный антиэссенциалистский подход к политическому мышлению означает номиналистическое понимание насилия, а не понимание его в качестве примордиальной, нередуцируемой сущности.
Второе: фукольдианская критика насилия не ограничивается одной только целью обличения конкретных практик насилия. Ее задача, скорее, должна состоять в том, чтобы раскрыть их имплицитную, а порой и эксплицитную рациональность. Я утверждаю, что вклад Фуко состоит в демонстрации, что между насилием и рациональностью нет несовместимости. Он отмечал, что хоть насилие, без сомнения, и ужасно само по себе, но на самом-то деле наиболее опасным в насилии является его рациональность10. Тем самым, мысль Фуко может привлечь наше внимание к анализу опасностей, присущих историческому триумфу рациональности: насилие в современном гражданском обществе может быть искоренено из общественных мест и открытых столкновений между врагами лишь для того, чтобы вновь возникнуть под предлогом улучшения институтов дисциплины, исправления и наказания11. Нам необходимо понять те конкретные способы, какими современные управленческие [governmental] рациональности переплетены с формами политического насилия.
Эти две формы фукольдианской критики я детальнее разработаю в двух последующих частях настоящей статьи. Начну с того, что подведу цикл лекций Фуко «Нужно защищать общество», прочитанный в Коллеж де Франс в 1976 году, под вопрос о неизменности политического насилия. Я покажу, как эти лекции оспаривают идеи о том, что политическое насилие является универсальной константой или неизбежной характеристикой естественного состояния. Вопреки этому Фуко радикально историзирует политическое насилие, связывая его с историческими событиями войны. Связи между физическим и политическим насилием понимаются им как радикально исторические и контингентные.
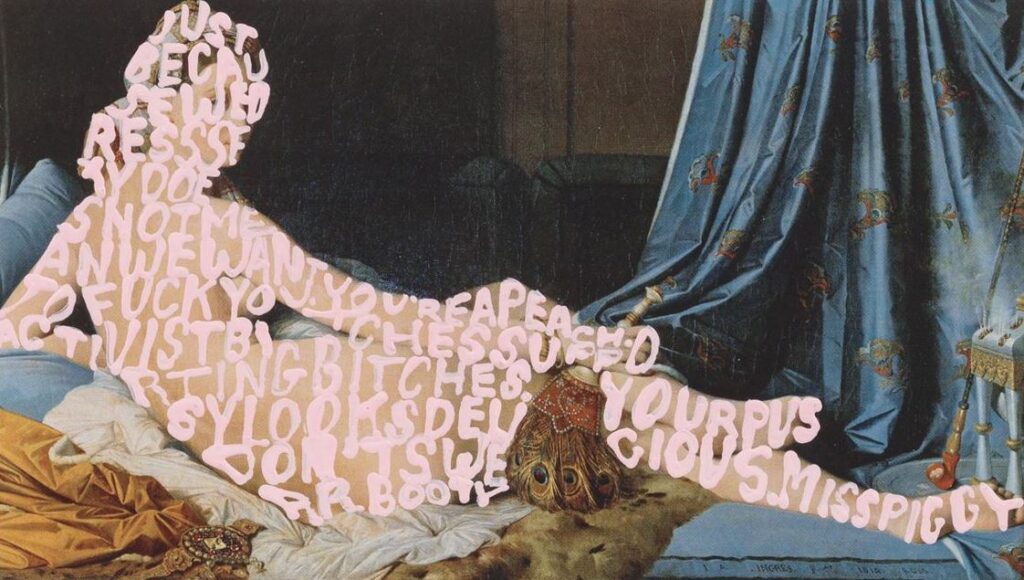
Этот начальный шаг, благодаря которому политическое насилие рассматривается как историческое и контингентное, подводит к анализу его рациональности во втором разделе. Я утверждаю, что выявление рациональности, которая производит и поддерживает различные формы политического насилия, предоставляет возможность его политического оспаривания. Это также позволяет представить конкретные альтернативы и спровоцировать изменения. Одновременно с тем, что мысль Фуко действенно ставит под сомнение принятие нередуцируемого физического насилия за онтологическую константу, она также пытается проанализировать и разоблачить его исторически и эмпирически конкретные формы.
Контингентность политического насилия
Я утверждаю, что политическое насилие следует понимать в строго исторических терминах — оно относится к эмпирически конкретным и зависящим от контекста практикам, нацеленным на умышленный телесный вред. Такой подход предоставляет возможность противостоять аргументам в пользу неотделимости насилия от политики, которые основаны на чрезмерно широких онтологических представлениях о насилии, оторванных от его конкретного и физического значения.
Постоянство политического насилия часто связывают с неустранимым насилием языка. Заезженное выражение «насилие языка» обычно отсылает к идее о том, что язык по необходимости навязывает некий частичный порядок: он упрощает опыт, разделяя его на управляемые единицы с помощью категорий и общих существительных, а также искусственно объективирует референт, вырывая его из контекста. Несколько философов после Ницше, таких как Хайдеггер, Фуко и Деррида, выделили и разъяснили это фундаментальное насилие языка. Однако во многих дискуссиях о «насилии языка» его отношение к физическому насилию рассматривается менее полно.
Хотя онтологическое насилие языка в значительной степени поддерживает, допускает и поощряет физическое насилие, смешивать их было бы серьезной ошибкой: нерефлексивный переход от неизбежности насилия, понимаемого как насилие языка — того, как язык всегда навязывает частичный и контингентный порядок, — к онтологическому насилию, понимаемому во втором и совершенно ином смысле фундаментальной враждебности и агрессии человеческих существ. Я утверждаю, что такой переход характерен для многих недавних теоретических апологий насилия. Насилие понимается как неустранимое в первом смысле, и это приводит к тому, что оно трактуется как фундаментальная константа и во втором смысле тоже.
Славой Жижек, к примеру, рассматривает насилие языка в вышеуказанном смысле в своей недавней книге «Насилие»12. Он решительно выступает против идеи о том, что язык является средством мирного сосуществования, и настаивает на том, что в самой символизации вещи всегда есть «нечто насильственное, что равносильно ее умерщвлению»13. Он заключает, что мы не можем, тем самым, «полностью отвергнуть насилие, когда борьба и агрессия являются частью жизни»14. Шанталь Муфф делает похожий переход, когда она утверждает, что насилие является неизбежным условием любого консенсуса. Отказываясь признать неискоренимость насилия, политическая теория оказалась неспособной понять «природу политического в его измерении враждебности и антагонизма»15. Хотя консенсус всегда является формой насилия в смысле исключения тех или иных интерпретаций, агонистическая природа политического не подразумевает неискоренимость физического насилия, понятого как фундаментальная агрессия человеческих существ. Иногда, но не всегда, консенсус также является результатом физических актов насилия: например, предположительно свободные выборы превращаются в практику организованного насилия и запугивания.
Таким образом, нельзя смешивать онтологическое насилие языка и физическое насилие, но в то же самое время между ними нет и какой-то обязательной причинно-следственной связи. К примеру, языковое стереотипирование евреев и темнокожих несомненно оправдывало и поддерживало антисемитские погромы и линчевания, но не обязательно вызывало их. И хотя, к счастью, эти исторически конкретные виды физического насилия в большинстве своем исчезли, оскорбительные стереотипы — нет. Наоборот, вне зависимости от того, насколько сочувственно мы называем, описываем и характеризуем различные группы людей, онтологическое насилие языка тем не менее сохраняется. Я утверждаю, что если «насилие языка» является именно онтологическим и поэтому обязательным и неустранимым свойством мышления, то физическое насилие является контингентным, исторически конкретным и зависящим от контекста.

Это не значит, что онтология — понятая как исторически меняющаяся структура конкурирующих фоновых представлений о реальности — полностью отделена и свободна от физического насилия. Напротив, моя цель в этом разделе — показать, в какой степени она конституируется им. Вслед за Фуко я утверждаю, что мы должны историзировать и онтологию: онтология — это осадок политических практик, в том числе ужасающе жестоких практик, прежде всего войны. Наследие насилия оседает в структурах и смыслах нашего мира. Реальность, какой мы ее знаем, отражает результаты прошлых войн и не является объективной или политически нейтральной сферой, ожидающей истинностного описания. Так или иначе, мое главное утверждение состоит в том, что исследование конституирующей роли физического насилия должно быть всецело историческим и не должно опираться на какое-либо представление об изначальном насилии как таковом.
Политические теоретики вроде Ханны Арендт16 выступали против идеи конститутивного насилия, подчеркивая чисто инструментальную природу насилия: оно может быть только средством политики и лишено какого-то собственного внутреннего смысла. Джеймс Додд17 называет это «принципом глупости насилия»: в самом общем виде он утверждает, что насилие может быть только средством. Оно остается запертым в границах очень узкого измерения реальности, определяемого применением средств. Насилие само по себе бессмысленно; взятое как таковое, оно в конечном итоге не имеет направления. Додд утверждает, что такое понимание насилия является противоположностью и отказом от другого влиятельного философского взгляда на насилие: насилие как изначальный источник смысла. Например, по мысли Карла Шмитта чистое насилие должно пониматься как радикально конституирующее событие: экзистенциальное насилие определяет момент, в который политическая воля нации как таковой вступает в бытие.
Моя цель здесь — доказать, что, хотя насилие и конституирует смысл, его конституирующая функция всегда должна пониматься через конкретные исторические практики насилия, а не в терминах чистого или изначального насилия как такового. Я обращаюсь к лекционному курсу Фуко «Нужно защищать общество» в попытке показать, что наряду с политической традицией, которая связывает постоянство и неизменность политического насилия с первичным состоянием войны и враждебной и агрессивной природой человека, существует и другая, которая также настаивает на тесной связи между политикой и насилием. Эта связь скорее историческая, нежели естественная, и она решающим образом сцеплена с рождением государства18.
Лекции Фуко вносят важный вклад в эту традицию мысли. Они представляют серьезный разрыв с гоббсианским наследием в политической мысли и одновременно формируют максимально эксплицитное вовлечение Фуко в вопрос политического насилия. В них раскрываются насильственные истоки государств, которые прикрываются теориями вневременной войны и законного договора. Я утверждаю, что работа Фуко с Гоббсом в этих лекциях имеет серьезные последствия для попыток историзации политического насилия и создания неотделимых от этого агонистических концепций политики. Фуко предваряет свой лекционный курс замечанием, что он хотел бы начать серию исследований о том, может ли война стать основанием для анализа властных отношений. Вместо того, чтобы рассматривать войну как разрушительный принцип, он хочет рассмотреть ее как принцип интеллигибельности для понимания истории, власти и общества. Он подытоживает свои предшествующие усилия по переосмыслению власти, отмечая, что «до сих пор, или примерно последние пять лет, это были дисциплины», но в следующие пять лет это будут «война, борьба, армия»19.
Как мы знаем теперь, этот масштабный проект так и не был реализован20. Я утверждаю, что, хотя такая модель войны и была в конечном итоге отброшена, все же существенно, что отброшена она была не в пользу понимания политического, основанного на консенсусе или договоре. Историзируя политическое насилие и, таким образом, демонстрируя его контингентность, Фуко не утверждает, что политика — это гармоничное царство рационального консенсуса. Идея власти как управления поведением — набора действий, осуществляемых над другими действиями — и основанный на практике расчет политической рациональности, обозначенный понятием «правительность» [governmentality] и развитый в лекциях после курса «Нужно защищать общество», означает, что политическая власть по-прежнему понимается как агонистическая и стратегическая21. Я утверждаю, что агонизм, присущий политическому по мысли Фуко, проистекает не из агрессии и враждебности человеческой природы, но из неизбежно исключающего и обремененного властью характера конституирования реальности. Мы живем в агонистическом обществе, потому что социальная сфера — это гегемонистское поле конкурирующих интерпретаций и ценностей, а не потому, что она неизбежно насильственна в том смысле, что состоит из жестоких индивидов.
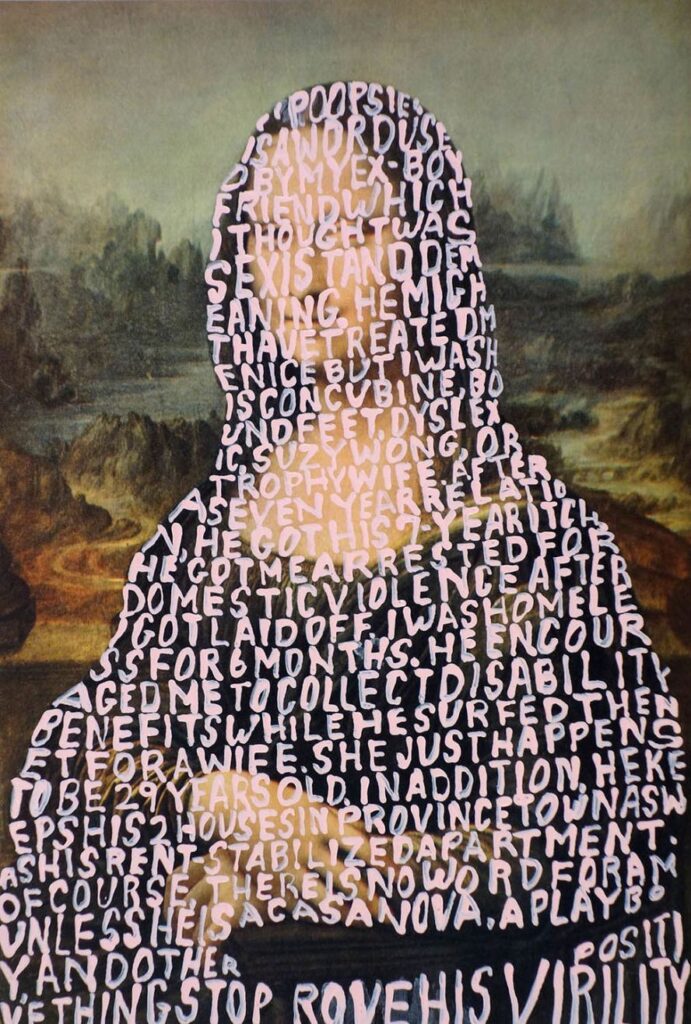
С помощью модели войны Фуко попытался предложить альтернативу тому, что он называл «экономическими моделями власти»: власть не должна рассматриваться как право, которым можно обладать так же, как обладают товаром. Это не что-то такое, чем индивид может обладать и от чего он может полностью или частично отказаться в пользу создания политического суверенитета22. Вместо того чтобы понимать политическую власть в терминах договора, законов и установления суверенитета, нам следует понимать ее в терминах непрекращающейся и переменчивой борьбы, движения, которое делает одних доминирующими над другими. В первой лекции [курса «Нужно защищать общество»] Фуко известным образом переворачивает сентенцию Клаузевица о том, что война является продолжением политики другими средствами, и выбирает в качестве своей рабочей гипотезы утверждение, что как раз политика является продолжением войны23. Он отличает эту модель от схемы юридического договора, представленной Гоббсом и его последователями-контракционистами, утверждая, что главная оппозиция пролегает не между легитимным и нелегитимным, а между борьбой и подчинением24.
Таким образом, это не абстрактная гоббсовская война всех против всех, а конкретная историческая борьба, в которой группы сражаются с группами. Фуко утверждает, что в традиции западной политической мысли доминировал договорной дискурс политической теории, которая скрыла память о реальной войне, лежащей в основании суверенитета. По его полемической формулировке, его цель заключается в том, чтобы показать, как возникновение государств, их организация и юридические структуры рождаются и утверждаются в крови и грязи сражений25. Политическое насилие конституирует реальность в конкретном, историческом и политическом смысле.
Задача разоблачения насильственных основ государства и права приобщает Фуко к длинному ряду мыслителей, таких как Макс Вебер и Вальтер Беньямин. Подобно Беньямину в его знаменитом эссе «К критике насилия», Фуко пытается раскрыть как правоустанавливающий, так и правоподдерживающий характер насилия: политический порядок государства, его законы и правовые постановления изначально сопровождаются насилием и продолжают поддерживаться практиками насилия26.
Впрочем, сам способ, которым Фуко решает эту заезженную задачу, поражает своей оригинальностью. Его многоуровневый анализ проходит через сложный и сжатый набор исторического материала от Англии XVI века вплоть до фашизма. Тем самым, он является предельно историческим или, еще точнее, генеалогическим. В этих лекциях Фуко представляет не эксплицитную философскую теорию власти, насилия или войны, а серию исследований исторически конкретного дискурса о власти, возникшего в конце XVI — начале XVII века в Англии и Франции. Он называет его «историко-политическим дискурсом» и утверждает, что хотя он принимал различные формы, его центральным тезисом всегда было то, что война, понятая в качестве конкретного сражения и организованного насилия, составляет неискоренимую основу всех отношений и институтов государственной власти. Исторически конкретные факты войны учредили сам порядок государства и, таким образом, властные отношения в том виде, в котором они функционируют в настоящее время.
Лекции Фуко оперируют и осуществляют реверсии на разных уровнях. На уровне историографии Фуко защищает практику контр-истории, которая всегда исходит из перспективизма, это дискурс боевой позиции, а не якобы нейтрального взгляда из ниоткуда. Он определяет происхождение этого историографического контр-дискурса и прослеживает его развитие в истинностных играх историографии и использовании ее в политической жизни. Эта новая историческая практика характеризовалась принципом гетерогенности: история одних людей не совпадает с историей других. Это показывает, что история на самом деле является «разделительным светом, который освещает одну сторону социального тела, но оставляет другую сторону в тени или отбрасывает ее во тьму»27. Фуко показывает, как историческое знание стало важным оружием в политической борьбе начиная с XVII века, как война ведется в истории, но также — посредством истории.
На философском уровне историографические аргументы Фуко служат нескольким теоретическим идеям. Хотя модель войны явно направлена на разоблачение неустранимого насилия — насилия, которое является основополагающим и необходимым для функционирования и существования государства, — важно отметить, что это насилие не онтологизируется в историко-политическом дискурсе Фуко. С точки зрения спора с Гоббсом, лекции Фуко можно читать как философский вызов той идее, что насилие является универсальной константой, неизбывной чертой естественного состояния. Напротив, Фуко переводит рассуждения о войне и насилии на предельно исторический уровень: государства берут начало в истории насилия, а не в естественном состоянии войны.

Фуко признает, что на первый взгляд Гоббс представляется человеком, провозгласившим войну основанием властных отношений и одновременно принципом, который их объясняет. Но еще более фундаментально, что его мысль фактически обозначила начало современного господского дискурса о праве и суверенитете, который сокрыл эмпирические реалии войны и жестокие факты истории. Согласно Фуко, предложенное Гоббсом состояние войны было не прямым столкновением сил, отмеченным кровью, битвами и трупами, а скорее определенным состоянием представлений, которые разыгрывались друг против друга. Установление суверенитета, в конечном итоге, всегда оказывалось результатом договора, расчета, позволяющего избежать войны, а не результатом реальной войны28. Перемещение политического насилия в эту аисторическую сферу представлений усиливало понимание его как основополагающей политической константы, затрудняя критику его исторических и контингентных форм, а также попытки их искоренения.
Фуко утверждает, что теория Гоббса прежде всего была попыткой узаконить и защитить суверенитет государства от гражданских столкновений, которые раздирали его в Англии того времени. Выступая за общий и абстрактный дискурс договора и суверенитета, Гоббс пытался скрыть исторический факт Нормандского завоевания. Его дискурс был направлен против политического историзма, противостоящего ему контр-дискурса того времени, который можно было услышать в речах парламентариев и в более экстремальных позициях левеллеров и диггеров. Эти группы оспаривали абсолютную власть монархии, ссылаясь на исторические знания о Нормандском завоевании. Они утверждали, что власть монархии была не результатом законного договора, а результатом насильственного завоевания, а значит — неправовым государством, в котором все законы и имущественные отношения были недействительными. Как раз в анализе этого исторического дискурса о юридическом значении Нормандского завоевания Фуко распознает первую имплицитную формулировку модели войны как анализатора власти29.
Ницшеанская формулировка власти как столкновения сил в этих лекциях также философски значима. Однако понятие силы используется здесь в озадачивающе ускользающих и даже противоречивых смыслах. Иногда оно используется как существительное: это не инертная субстанция, но вместе с тем это нечто, что можно использовать и чем можно обладать в целях обретения власти [empower]. К примеру, контр-история Анри де Буленвилье (изучение исторического и политического развития нации с целью подорвать юридическую власть) анализировала и интерпретировала силы народа, но и сама по себе была силой30. Порой Фуко ограничивается более реляционной формулировкой «отношения силы», но использует он ее по-разному: иногда она представляется синонимом «игры власти», а иногда сама власть — это «игра отношений силы»31.
Это означает, что та политическая онтология, которую излагает Фуко, также не очень ясна. Политическая сфера явно понимается как агонистическая, это сущностно открытое, даже безграничное поле сменяющихся столкновений или сил, однако остается неясным, каков онтологический статус этих конкурирующих сил. Содержательные формулировки предполагают виталистическую, делезианскую онтологию, в то время как «отношения сил» перекликаются с марксистской концепцией, в которой политика понимается как сфера, в которой отыгрываются исторические силы. Похоже, понятие силы возвращает Фуко к защите некой формы эссенциалистской политической онтологии, хотя и отличной от той, которую он обнаруживает в мысли Гоббса, — позиции, которую, по моему предположению, его политический историзм намеревался поставить под сомнение.
Мы можем также увидеть новизну понятия силы у Фуко именно в том, что оно включает в себя материальность насильственного принуждения, однако не редуцируется к нему. В своих лекциях Фуко утверждал, что армия короля может быть силой, но силой может быть и история народа. Благодаря его понятиям войны и силы он, таким образом, может быть прочитан как разрушитель онтологической границы между дискурсивным и недискурсивным: гегемонистское учреждение значений, идентичностей и систем мысли переплетается с насильственным начертанием тел32. Политический порядок является кристаллизацией властных отношений и результатом конкретной борьбы; объективность является результатом столкновения между конфликтующими интерпретациями и конституируется посредством бесшумной «войны», и, что важно, то и другое неразделимо. По формулировке Беатрис Ханссен33, цель Фуко заключалась в том, чтобы показать, как роль политической власти все время состояла в использовании бесшумной войны для повторного закрепления отношений силы, установленных посредством конкретной войны, в институтах, экономическом неравенстве и идентичности индивидов. Посредством символических практик политика санкционирует и воспроизводит дисбаланс сил, манифестированный в войне.
Модель войны, равно как и понятие силы, тем самым артикулирует переплетение физической борьбы за жизнь с интерпретационной борьбой за истину и объективность. Наша политическая история, как и нынешний политический порядок, обнаруживает, что навязывание гегемонистских смыслов, идентичностей и интерпретаций было неотделимо от физического насилия — исторических фактов войн. Реальность, какой мы ее знаем, отражает результаты прошедших войн и не является объективной или политически нейтральной сферой, ожидающей правдивого описания.

Я утверждаю, что Фуко должен был увидеть опасность, к которой привело бы полное слияние двух этих значений силы — физического и символического, — в любом случае, впоследствии он отказался от самой модели войны. Если его изначальный вопрос звучал так: «В какой степени отношения господства могут быть сведены к понятию отношений силы?»34, то позже он ответил на него однозначно, отрицая, что власть вообще может быть полностью сведена к силе или насилию35. Насильственное начертание тел сливается с начертанием значений в функционировании современной политической власти, но эти аспекты нельзя полностью наложить друг на друга, не совершая при этом фундаментальной онтологической ошибки.
Поэтому я утверждаю, что, выдвигая модель войны в качестве анализатора властных отношений, Фуко в первую очередь отстаивал агонистическую концепцию политического, а не защищал онтологию насилия. Отстаиваемый им агонизм не укоренен в каких-либо эссенциалистских суждениях о насилии. Тот факт, что социальное пространство является агонистическим, не вытекает из первобытного состояния войны или из неискоренимой враждебности человеческих существ. Скорее, он вытекает из онтологического представления о том, что все политические реалии являются контингентными и спорными, поскольку они конституируются историческими практиками, включающими властные отношения. Политическое пространство понимается как нестабильная сеть властных отношений, которая, тем не менее, конституирует такие стабильные смыслы и институты, как «президент Соединенных Штатов» или пенитенциарная система. Существование этих политических и институциональных реальностей, впрочем, хрупко в том смысле, что они зависят от постоянного участия людей в практиках, которые только и могут их конституировать. Нестабильность политической сферы, тем самым, не связана со сбоем в функционировании политических механизмов или форм знания. Она обусловлена природой самой политической сферы. Хотя порой некоторые практики и стратегии оказываются победоносными и благодаря этому временно овеществляются в относительно стабильных структурах, это провоцирует встречную борьбу, обеспечивая продолжение игры за власть.
Эта агонистическая политическая онтология практик также является той причиной, по которой Фуко постоянно отказывался предложить какую-либо общую политическую теорию: сопротивление формируется из различных стратегий в различных практиках. Они «разрезают общество по диагонали» и нацеливаются на конкретные преобразования36. Хотя государственная власть неизбежно вовлекает нас в насилие, будучи одновременно индивидуализирующей и тотализирующей формой власти, Фуко не предусматривает никакого радикального свержения государства, никакого окончательного или глобального освобождения. Вместо этого, продвигаемая им анархическая борьба носит конкретный, но непосредственный и трансверсальный характер. Это борьба, которая первым делом ставит под вопрос статус индивида, продвигая новые формы субъективности и ставя под сомнение способы циркуляции и функционирования знания в его отношениях с властью37.
Это означает, что сопротивление насилию также может принимать форму только конкретных практик ненасилия. Что важно, вследствие этого и само значение насилия должно быть объектом борьбы в наших истинностных играх — исторических и социальных практиках, производящих знание. Это ключевая идея второй части настоящего эссе. Я утверждаю, что нам следует понимать насилие не как чисто инструментальное и лишенное смысла, но как имеющее смысл и рациональность, которые всегда исторически и культурно конкретизированы. Именно смысл и рациональность являются решающей стороной политической борьбы: чтобы эффективно критиковать их, мы должны осознать ту специфическую и особую рациональность, которую практики насилия обретают в различных сетях власти.
Рациональность насилия
Дискуссии вокруг взглядов Фуко на насилие чаще всего сосредоточены на его позднем эссе «Субъект и власть», послесловии к книге Хьюберта Дрейфуса и Пола Рабиноу «Мишель Фуко: По ту сторону структурализма и герменевтики» 1982 года. В этом эссе Фуко ставит тот же вопрос, что и Арендт в «О насилии», а именно: является ли насилие просто высшей формой власти, «которая в конечном итоге предстает как ее подлинная природа, когда она вынуждена сбросить маску и показать себя такой, какова она на самом деле»38? Как и Арендт, он дает отрицательный ответ и выдвигает противоположный взгляд на отношения между властью и насилием: они противоположны в том смысле, что там, где одно господствует абсолютно, другое отсутствует. «Там, где принуждающие факторы насыщают целое, нет никаких отношений власти; рабство — это не отношения власти, при которых человек находится в цепях»39.
Фуко отделяет власть от насилия, утверждая, что властные отношения — это способ действия, который не направлен на других прямо и непосредственно, но скорее воздействует на их действия: это набор действий в отношении других действий. Это означает, во-первых, что тот, над кем осуществляется власть, полностью признается как субъект, как человек, который действует. Во-вторых, он или она должны быть свободными, то есть при столкновении с отношениями власти для них может открыться и реализоваться целое поле возможностей — ответов, реакций, последствий и импровизаций. С другой стороны, насилие воздействует прямо и непосредственно на тело. Это не воздействие на действие субъекта, а воздействие на тело или на вещи.
Это тонкое отделение власти от насилия, без сомнения, восстанавливает возможность критики насилия, на что метко указали некоторые комментаторы Фуко. Например, Томас Флинн40 отмечает, что для Фуко все насилие связано с отношениями власти, но не все отношения власти обязательно влекут за собой насилие. Это скорее тот вид власти, который Фуко называет «господством» и который Флинн обозначает как «негативную» власть, по необходимости ассоциированную с насилием.
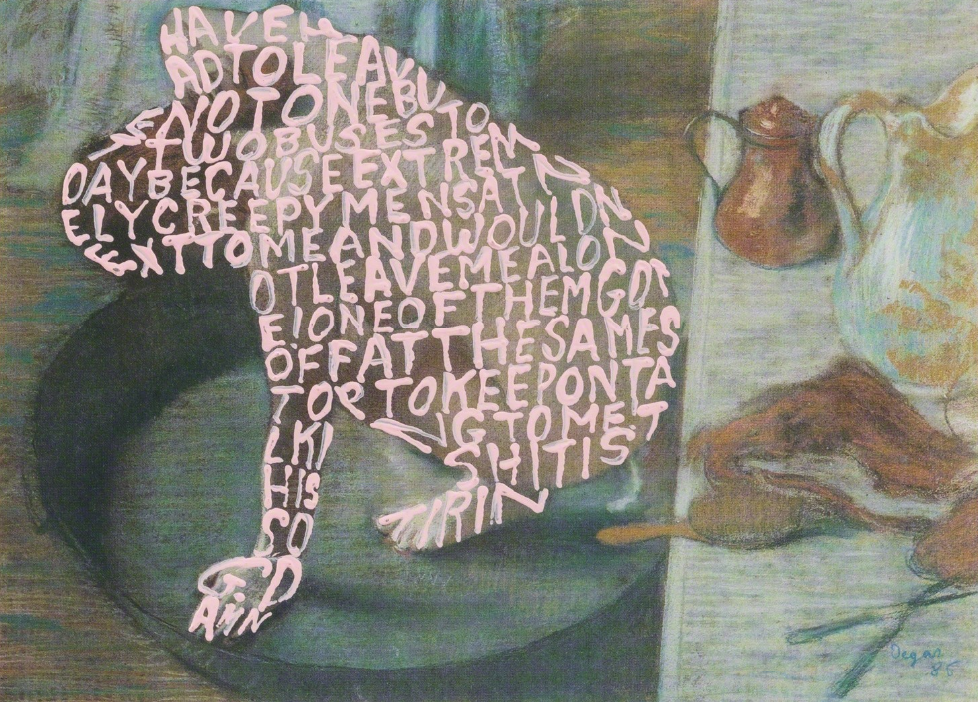
Так или иначе, в свете более ранних работ Фуко о власти категорическое различение, которое он проводит между властью и насилием в этом позднем тексте, во многом вызывает недоумение. Создается впечатление, что в его взглядах произошел почти полный переворот. В своей изначальной обширной работе о современных формах власти, таких, например, как дисциплинарная власть, Фуко, как казалось, утверждал прямо противоположное: любое четкое различение между властью и насилием несостоятельно. Он также использовал модель войны для анализа функционирования властных отношений, как показано в первой части настоящего эссе, и утверждал превосходство этой модели по сравнению со всеми договорными моделями власти.
Ханссен41 интерпретирует этот сдвиг в том ключе, что Фуко изменил свое мнение. На последних этапах своего научного развития он был готов признать, что его прежняя модель власти как борьбы и войны остается слишком туманной и что он отказывается от нее. Ханссен утверждает, что под растущим давлением своих дружественных критиков Дрейфуса и Рабиноу, требовавших от него дальнейшей экспликации категории власти, Фуко напрямую обратился к вопросу о том, как власть должна быть отделена от насилия, как если бы он хотел раз и навсегда закрепить категориальное различение между двумя этими терминами. Тем самым, различие, сформулированное в этом позднем эссе, представляет собой его более зрелый и взвешенный взгляд на данную тему.
Я утверждаю, что, хотя и важно серьезно относиться к позднему различению Фуко между властью и насилием и его значению для критики насилия, все же это не самый оригинальный вклад, который Фуко вносит в критику насилия. Если размышления Фуко о насилии свести к категорическому различению между властью по согласию и принудительным насилием, мы потеряем из виду то, что является здесь наиболее оригинальным и важным42. Все определения насилия, включая и те, которые дает сам Фуко, должны пониматься как политические действия, а их охват и приемлемость должны быть открыты для постоянного оспаривания. На мой взгляд, важнейшее наследие Фуко не в том, что он предоставил нам философски точное различение между властью и насилием, а скорее в демонстрации того, как все определения и социальные объективности, включая и смысл насилия, конституируются в сетях власти/знания и, таким образом, оказываются предметом оспаривания и борьбы.
В одном из своих последних интервью в январе 1984 года Фуко открыто признался, что когда он начал интересоваться проблемой власти, он не мог говорить о ней достаточно ясно или использовать подходящие понятия, и что теперь он имеет гораздо более четкое представление обо всем этом. Далее он проводит различие между тремя разными уровнями своего анализа власти: (1) стратегические отношения между индивидами, (2) состояния господства и (3) техники управления. Стратегические отношения относятся к способам, которыми индивиды пытаются детерминировать поведение других, а доминирование относится к состояниям, когда индивиды не в силах отменить или изменить данные властные отношения. Третий уровень, анализ управленческих [governmental] технологий, относится к обширным рациональностям власти, таким как биовласть. По моему мнению, именно этот уровень анализа является наиболее оригинальным вкладом Фуко в анализ власти. Действительно, по его собственному замечанию этот уровень анализа необходим, потому что именно с помощью техник управления обычно устанавливаются и поддерживаются состояния господства43.
Когда мы анализируем власть на уровне индивидуальных действий, можно провести достаточно четкие различия между актами власти и актами насилия. Однако когда мы переходим на третий уровень и пытаемся проанализировать технологии власти, различие становится более проблематичным. Практики и институты управления, в широком смысле этого слова, всегда запускаются, регулируются и оправдываются специфической формой рассуждения или рациональности, определяющей цели и подходящие средства их достижения. Аналитика технологий власти концентрируется не только на действительных механизмах власти, но и на рациональности, которая является частью практики управления44.
Если мы, таким образом, рассматриваем сеть власти как практику или игру, как также предлагал Фуко, то анализ техники управления будет означать анализ как имплицитных, так и эксплицитных правил, которым эта практика соответствует45. На этом уровне трудно начать с четкого различения насилия и власти, потому что правила в значительной степени определяют, что понимается под актами власти или под актами насилия в конкретной игре. Более того, разные правила или рациональности совместимы с разными формами насилия46.
К примеру, возьмем игру в хоккей. Тому, кто не знаком с правилами и целями игры, она, вероятно, покажется чередой случайных актов насилия. Только когда человек понимает правила и цели, он может классифицировать действия отдельных игроков как дозволенные ходы или как наказуемые акты насилия. Точно так же мы можем взять пример домашнего насилия и сказать, что оно существует только в определенном культурном и историческом контексте. Формы поведения, которые мы сейчас подразумеваем под домашним насилием, лишь совсем недавно стали пониматься именно как формы насилия.

Джефф Херн47, например, утверждает, что при попытке понять связь между гендерными отношениями и насилием важно рассматривать проблему в историческом контексте. В частности, это касается понимания того, как насилие мужчин над женщинами принималось, оправдывалось, нормализовалось и игнорировалось как индивидами, так и институтами. Лишь рассмотрев гнетущий исторический контекст насилия мужчин над женщинами, можно понять, как мужчины в целом воспринимают и определяют насилие в повседневности. Что касается мужчин, склонных к насилию над женщинами, то основная часть этой проблемы состоит в конструировании того, что подразумевается под насилием. Именование и определение насилия — это скорее социальный, нежели естественный процесс, и к попыткам дать всеобъемлющие определения следует относиться с осторожностью, поскольку они связаны с гендерными социальными процессами. Оспаривание определений насилия, таким образом, является существенным элементом связанных с ним критики и вмешательства48.
Аналогичным образом, недавние критические анализы терроризма подчеркивают, что различные формы насилия называются «террором» не потому, что существуют валентности насилия, которые можно отличить друг от друга на объективных основаниях, а потому, что этот ярлык функционирует в качестве характеристики насилия, осуществляемого политическими образованиями, признанными нелегитимными со стороны существующих государств. Джудит Батлер49, к примеру, утверждает, что в той мере, в какой Женевская конвенция дает основания для различения между законными и незаконными комбатантами, она также проводит различие между легитимным и нелегитимным насилием. Использование термина «терроризм» работает на делегитимацию определенных форм насилия, совершаемого негосударственными политическими образованиями, и в то же время санкционирует насильственный ответ со стороны существующих государств. Иными словами, террор описывает не отдельный вид насилия, а форму насилия, которая нелегитимна. Это не описательное понятие, а предписывающее понятие, интеллигибельность которого зависит от нормативного утверждения, которое оно делает. Если насилие является террористическим, а не политическим насилием, это означает, что оно не только нелегитимно, но, куда более важно, что оно неинтеллигибельно в рамках принятой политической рациональности: оно воспринимается как действие, не имеющее рациональной политической цели, как действие, которое не может быть прочитано политически50.
Тем самым, я утверждаю, что, исходя из аналитики власти Фуко, в конечном итоге невозможно гарантировать какое-либо категоричное, свободное от контекста определение насилия. Напротив, из этого следует, что мы должны остерегаться любых подобных определений. Мы должны помнить утверждение Ницше о том, что «определить можно лишь то, что лишено истории»51. Мысль Фуко должна быть прочитана как попытка раскрыть рациональность, лежащую в основе специфических практик власти, и изучить, в какой степени эта рациональность подразумевает и совмещается со специфическими формами насилия. Если вернуться к примеру домашнего насилия, то на основании мысли Фуко можно утверждать, что наиболее опасными в гендерном насилии являются те его аспекты, которые выдают его за совершенно нормальное и рациональное поведение. Даже если мужское доминирование и мужское насилие над женщинами не должны смешиваться теоретически, феминистский анализ должен изучить степень взаимосвязи, взаимной поддержки или даже идентичности рациональностей, поддерживающих мужское доминирование, и рациональностей, поддерживающих формы мужского насилия над женщинами. К примеру, когда форма рациональности, согласно которой муж обязан не только обеспечивать, но и контролировать свою жену и детей, сочетается с допустимостью физической силы в качестве средства контроля, возникает структура домашнего насилия. Таким образом, рационализация домашнего насилия часто не является попыткой узаконить насилие как таковое, а скорее попыткой узаконить иерархический контроль мужчин над женщинами.
Радикальность метода Фуко состоит в том, что он показывает, как значение и онтологический порядок вещей, которые мы принимаем за неоспоримую реальность, сами по себе являются результатом политической борьбы. Его генеалогии делают видимой историческую борьбу за истину и объективность; как наше понимание реальности постепенно конституируется в исторических практиках, которые всегда включают в себя отношения власти. Утверждение агонизма, таким образом, подразумевает не неизменность войны и насилия, а неизменность властных отношений. Какими должны быть механизмы их установления, изменения, регулирования, ограничения и критики — таковы политические вопросы par excellence.
В заключение следует отметить, что видение Фуко современности без сомнения пессимистично, но было бы неверно делать из этого вывод, что оно опирается на антропологический пессимизм. Даже если бы мы согласились с тем, что насилие настолько повсеместно распространено, что оно представляется неизбежным для человеческой природы или человеческих обществ, само по себе это наблюдение, как и утверждение любой социальной объективности, может быть только исторически перспективистским и политически нагруженным истинностным суждением. Если критика Фуко не является критицизмом в обычном смысле этого слова, то и его пессимизм является не пессимизмом, а скорее некой формой оптимизма:
Есть оптимизм, который состоит в утверждении: «В любом случае, лучше быть не может». Мой оптимизм, пожалуй, состоит в утверждении: «Так много вещей можно изменить, ведь они так хрупки, привязаны скорее <…> к сложным, но преходящим историческим контингентностям, нежели к неизбежным антропологическим константам»52.
Поскольку человеческие феномены радикально контингентны и исключительны, в сфере политического всегда остается некоторое пространство для надежды. Эти «линии хрупкости в настоящем», возможно, не создают пространства для утопий о мире, свободном от насилия, но они подразумевают, что то, что есть, может быть и иным53. Они заставляют нас принять глубочайшую контингентность политической сферы и распознать структуру обетования, скрытую в том факте, «что человеческое время принимает форму не эволюции, а истории»54.
Oksala J. Lines of Fragility: A Foucaultian Critique of Violence // Philosophy and the Return of Violence. Studies from this Widening Gyre. — Continuum, 2011. P. 154–170.
Перевод с английского Дмитрия Хаустова
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Santoni, Sartre on Violence: Curiously Ambivalent, 2003, ix.
- Arendt, On Violence, 3.
- Оппоненты Фуко неоднократно утверждали, что его мысль делает невозможными любые формы ее критики. Юрген Хабермас, пожалуй, самый известный критик Фуко, который обвинял его в отсутствии нормативного обоснования в его анализах. См. Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, 1987.
- King, A Testament of Hope, and Gandhi, Non-Violent Resistance, 1985.
- Толстовское анархо-пацифистское движение в России, к примеру, было построено на идее, что отказ от принуждающей власти обязательно подразумевает абсолютный пацифизм.
- Foucault, Cambridge Companion to Foucault, 317.
- Keane, Violence and Democracy, 2004.
- Foucault, «An Historian of Culture», 99.
- Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1, An Introduction, 1978, 93.
- Foucault «Foucault étudie la raison d’État» in Dits et écrit II, 1976–1988, 803.
- Keane, 37.
- Žižek, Violence, 2008.
- Ibid., 52.
- Ibid., 54.
- Mouffe, The Democratic Paradox, 132.
- Arendt, On Violence.
- Dodd, Violence and Phenomenology, 11.
- Макс Вебер предлагает известную формулировку этой идеи в своей лекции «Политика как призвание», в которой он определяет государство как человеческое сообщество, обладающее монополией на законное применение насилия. См. Weber, «Politics».
- Foucault, Society Must Be Defended, 23.
- Hanssen, Critique of Violence, 148. Ханссен утверждает, что изменение плана выявило разочарование Фуко в громоздкости того, что грозило стать всеохватывающей матрицей власти/войны. Алессандро Фонтана и Мауро Бертани утверждают, что лекции представляют собой переход от «Надзирать и наказывать» к первому тому «Истории сексуальности». От интереса к дисциплинарной и суверенной власти Фуко постепенно перешел к более выраженному интересу к биовласти. См. Fontana and Bertani, «Situating the Lectures».
- Davidson, «Introduction», xvii–xviii. В своем введении к английскому переводу Дэвидсон утверждает, что, изучая дискурс войны в этом курсе, Фуко сформулировал стратегическую модель власти. Хотя широко признано, что эта формулировка была одним из его главных достижений в этот период, полный объем и значение этой модели не были должным образом оценены.
- Foucault, Society Must Be Defended, 13.
- Clausewitz, On War, 87.
- Foucault, Society Must Be Defended, 17.
- Ibid., 50.
- Benjamin, «Critique of Violence».
- Foucault, Society Must Be Defended, 70.
- Ibid., 89.
- Ibid., 109.
- Ibid., 168.
- Ibid., 169.
- Foucault, «Nietzsche, Genealogy, History» in The Foucault Reader.
- Hanssen, 15–16.
- Foucault, Society Must Be Defended, 46.
- Foucault «The Subject and Power», in Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, 1982.
- Foucault, «Polemics, Politics, and Problematizations: An Interview with Michel Foucault», in The Foucault Reader, 375–376.
- Foucault «The Subject and Power», in Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, 212.
- Foucault «The Subject and Power», in Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, 220.
- Arendt, On Violence, and Foucault «The Subject and Power», in Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, 221.
- Flynn, Sartre, Foucault, and Historical Reason, 244–245, 250.
- Hanssen, 148–149.
- Важно также отметить, что хотя и Фуко, и Арендт подчеркивают, что отношения между властью и насилием являются оппозиционными, они оба утверждают, что, тем не менее, обычно они всегда возникают вместе. Их оппозиционные отношения всегда взаимно ограничены и, таким образом, относительны в том смысле, что по мере увеличения одного из них другое уменьшается. Чем более пассивны и физически скованы субъекты, тем более очевидны отношения насилия, а не власти. По мере роста активности и свободы субъекта отношения насилия переходят в отношения власти. Тем самым, то, что на первый взгляд кажется резким различием между властью и насилием, на самом деле отсылает к идее, что власть и насилие настолько переплетены, что всегда образуют континуум, а не четкую дихотомию. См. Arendt, On Violence, 1970, 46; Foucault «The Subject and Power», in Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, 220.
- См. Foucault «The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom», in Ethics, Subjectivity and Truth: Essential Works of Foucault 1954–1984, 299.
- Ср. Lemke, «Foucault, Governmentality, and Critique».
- Одной из любимых у Фуко моделей для осмысления власти было понятие игры. См. Davidson, «Structures and Strategies of Discourse», 4.
- Действительно, сам термин «домашнее насилие» появился сравнительно недавно и был признан многими феминистками весьма проблематичным понятием. Дебаты о корректности термина продолжаются. Старк и Флиткрафт, например, утверждают, что домашнее или семейное насилие является проблематичным понятием, поскольку оно подразумевает, что то, что подлежит объяснению, является событием частной жизни (Stark and Flitcraft, Women at Risk). «Насилие в отношении женщин», с другой стороны, проблематично, потому что оно отсылает к трансисторическому феномену. Они предлагают термин «избиение женщины» [woman battering] и утверждают, что он относится к «исторически конкретной совокупности структурных, культурных и психодинамических сил».
- Hern, «Men’s Violence», 25.
- Ibid., 27–29.
- Butler, Undoing Gender.
- Ibid., 87–88.
- Nietzsche, On the Genealogy of Morals, 60.
- Foucault «So Is It Important to Think?», in Power: Essential Works of Foucault 1954–1984, 458.
- Флинн формулирует позицию Фуко в отношении насилия в этих терминах в своем исследовании о Фуко и Сартре. Проводя различие между насилием и властью, Фуко оставляет пространство для ограниченной надежды, но не для утопического стремления, которое Сартр связывает со своими понятиями «социализма изобилия» и «града целей» (Flynn, Sartre).
- Foucault «Is It Useless to Revolt» in Foucault and the Iranian Revolution, 266.


