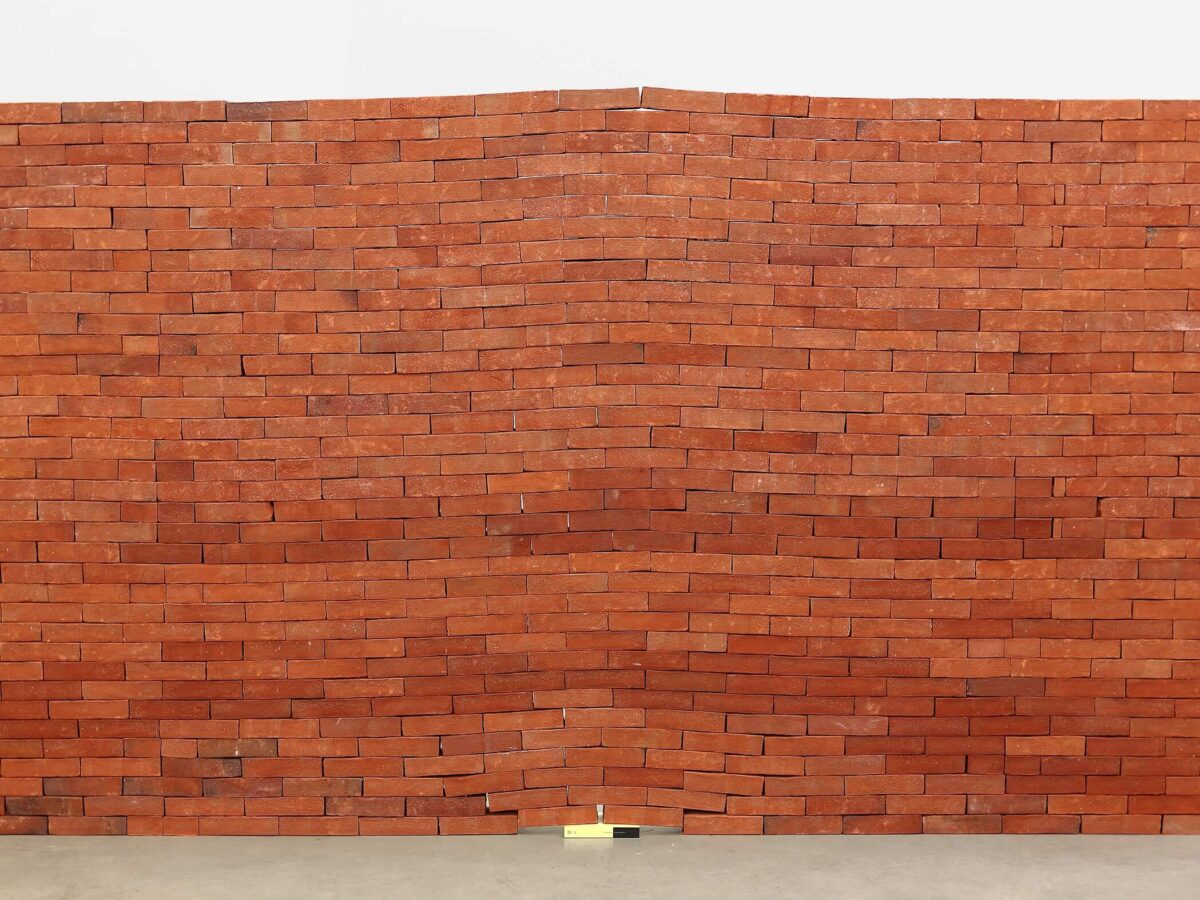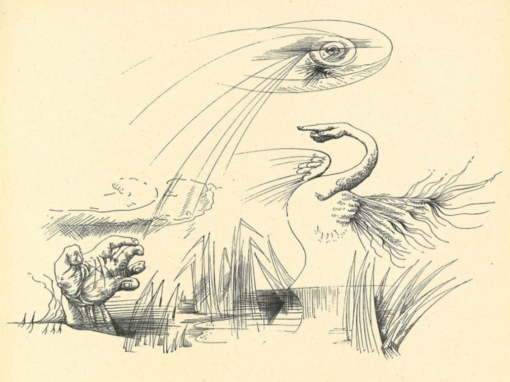В рамках вступительного слова мне представляется важным конкретизировать нижеследующий список книг. Ведь недостаток конкретизации, уход от нее в сторону сколько-нибудь успокаивающих абстракций является не внешним и не вторичным фактором текущей политической ситуации, но фактором определяющим — а именно деполитизирующим. Отсюда и вытекает мое решение ограничить свой список текстами именно из политической философии. Форсированная деполитизация, удачно схваченная формулой «а я политикой не интересуюсь», во многом и подвела нас к той точке, в который мы все оказались. Если и есть шанс расколдовать раскинувшийся перед нами морок, то лишь победив, в качестве предварительного условия, аморфность тотальной деполитизации, противопоставив ей усилия политической мысли.
Ханна Арендт, «О насилии»

Поразительно, но после 24 февраля Ханна Арендт внезапно для всех превратилась в философа номер один — как писателем номер один стал, тут уж вполне предсказуемо, Оруэлл, — так много разнообразных людей никак не сговариваясь друг с другом нашли цитаты из Арендт удивительно подходящими к проблемам момента: от политической атомизации в условиях тоталитарной «банальности зла» до наболевшего различения вины и ответственности. Пускай поразительно, но неслучайно: Арендт и правда с несравнимой последовательностью продумала и передумала заново весь политический ХХ век с конституирующими его феноменами насилия и власти, войны и революции. Так, небольшой ее текст «О насилии» обладает — помимо доступности — преимуществом этакой точки схождения, встречи всех этих феноменов. По-настоящему важной, новаторской эту работу делает решительное различение власти и насилия: с точки зрения Арендт, это не просто разные феномены, но феномены противоположные, в пределе обратно пропорциональные друг другу — и неумолимая логика насилия в этой подвижной пропорции лишь нарастает, чем более истончается и убывает всамделишная, то есть легитимная власть. Уверенный республиканизм Ханны Арендт, восходящий к классическим образцам политического мышления Греции и Рима, удерживает нас от отчаянного соблазна валить все известные нам политические категории в одну неразличимую кучу, из которой, как из гегельянской ночи, то и дело выглядывают огрызки диковинных дискурсов: «управляемая демократия», «духовные скрепы», «радиоактивный пепел»… В противовес этому мэшапу дурно отыгранного постмодернизма, зубастый скучающий зев у которого подчас обретает контуры тоталитарного капкана, Арендт настаивает на добродетели точного, различающего политического мышления. В опоре на это мышление мы, вслед за Арендт, должны перевернуть циничную формулу диктатора Мао и наконец осознать, что винтовка рождает всё что угодно, «но власть родиться оттуда не может никогда».
Альбер Камю, «Бунтующий человек»
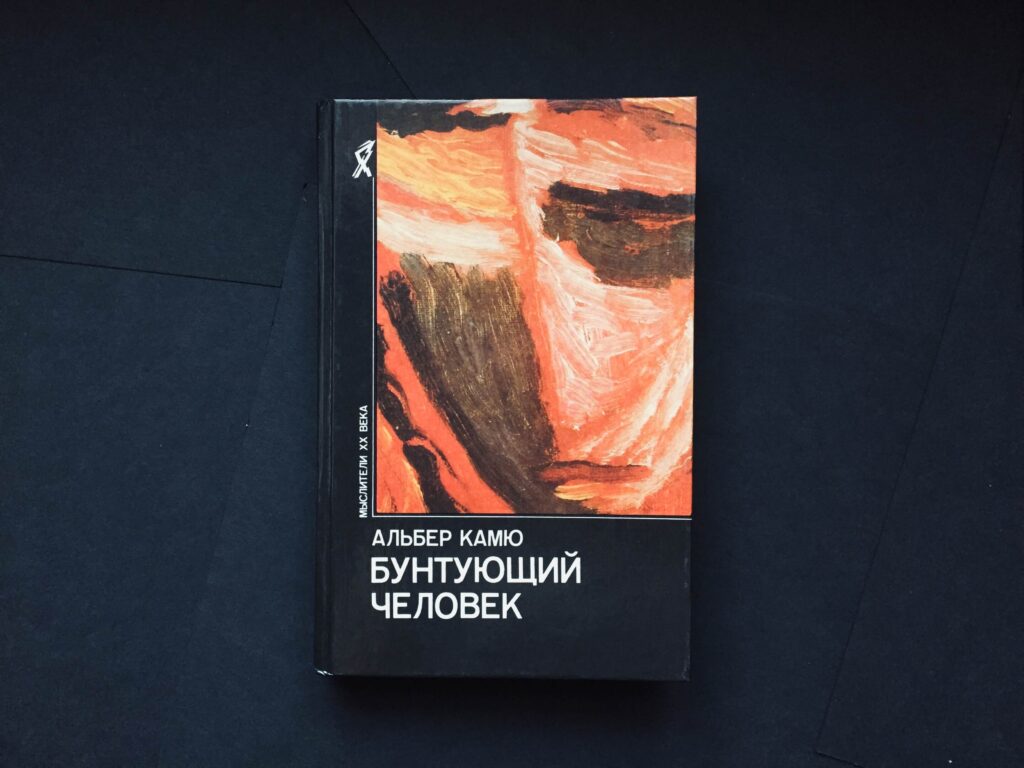
У Камю отчетливо выделяются два последовательно развиваемых им сюжета: в прославленной книге «Миф о Сизифе» это тема абсурда — переизбыток которого в настоящем и так превращает Камю в нашего незаменимого психоаналитика, — тогда как в куда менее востребованной книге «Бунтующий человек» это тема бунта, которая как раз дополняет подчеркнуто негативную тему абсурда попыткой, смелой и в целом удачной, сделать трудный шаг в сторону позитивного аргумента — попыткой, как пишет Камю, вывести философию не из тревоги (как в случае «Мифа о Сизифе»), а из счастья. Конечно же, сам разговор о каком-то там счастье сейчас многим покажется неуместным, а зря, ведь игнорируя этот вопрос, игнорируют также и тот политический потенциал, который в этом вопросе сокрыт. И в этом как раз состоит незамеченное новаторство Камю периода «бунта» — в самом философском порыве создать, так сказать, «политический экзистенциализм счастья» вопреки угрюмому сартровскому Ничто, в какой-то момент «доничтожившемуся» до оправдания терроризма. Идущий на радикальный разрыв с былыми единомышленниками-марксистами, Камю решительно отвергает складывающуюся в послевоенной Европе философскую религию насилия, превращающую когда-то свободолюбивый экзистенциализм в банальный и разрушительный нигилизм, и воспевает творческий, утвердительный бунт против нигилистического ресентимента. Перед нами достаточно редкий опыт позитивного, деятельного отказа, в рамках которого «нет» превращается в «да», а индивидуальный протест открывает возможность для истинной солидарности с коллективом. Когда Камю говорит «я бунтую, следовательно, мы существуем», он тем самым дает небанальный ответ на мучительные вопросы как разобщенного общества, так и, к примеру, вечно расколотой оппозиции — о том, как сплотиться без регресса в авторитаризм и как подлинной солидарности не выродиться в покорную скрепоносность. В той мере, в какой эти вопросы продолжают для нас что-то значить, время Камю-бунтаря не спешит уходить.
Жак Рансьер, «Несогласие»
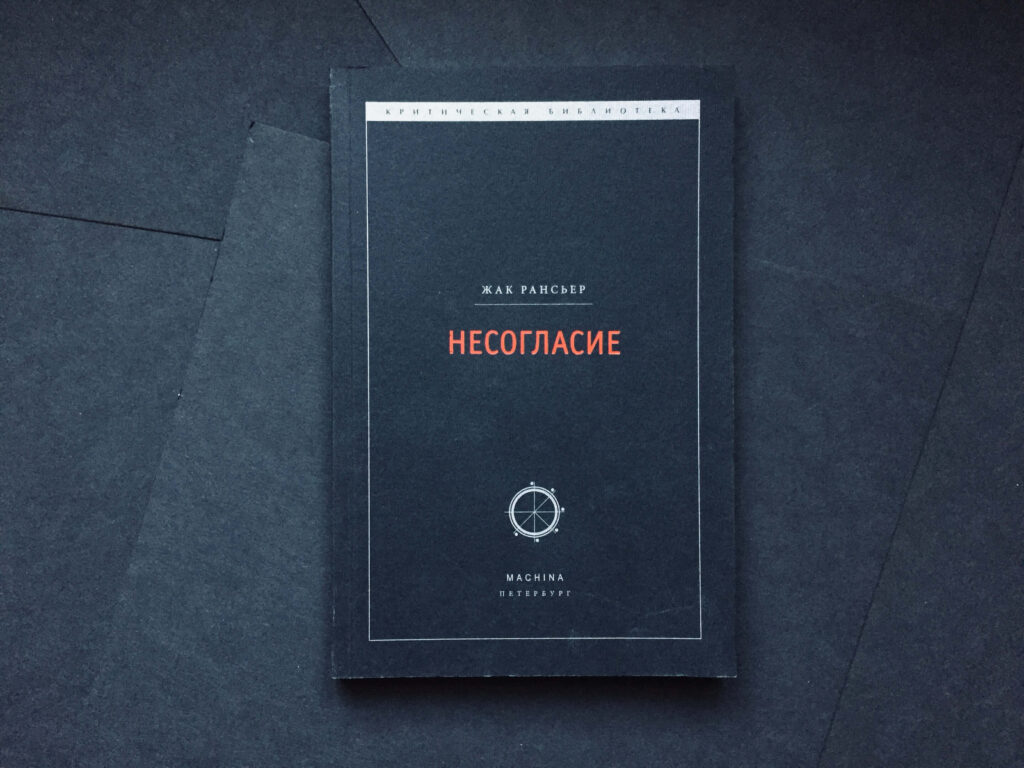
Это может прозвучать шокирующе, но политическая критика дискурса вовсе не обязательно должна напоминать тяжеловесные, неповоротливые мантры (à la Хабермас) для сытых и праздных времен. Напротив, Рансьеру в его «Несогласии» не занимать злободневности: он копает достаточно глубоко, чтобы выйти к самим основаниям того конвульсивного хаоса, в который, как мы наблюдаем, проваливается деполитизированное, расколотое и обьятое насилием общество. Как ни парадоксально, хаос являет себя отнюдь не в диссенсусе, а в известном — полицейском, как его называет Рансьер — стремлении некоторых групп общества навязать социальному целому единый, «стабильный» и гомогенный порядок. Этот базовый репрессивный процесс и оборачивается приглашением ко всё более разрастающемуся насилию, ибо порядок в пользу одних всегда — от платоновской «политии» до тоталитарных дистопий ХХ века — оплачивается кровью всех остальных. В такой перспективе именно акт диссенсуса в противовес самоубийственному Gleichschaltung1 оспаривает само «право собственности» частной группы на весь образ общества в целом, включая в него и всех тех, кто волею «власти» из этого целого исключен. Смелый проект по переосмыслению политического, предпринятый Рансьером на волне его личного несогласия с опасными апологиями господства (без разницы, «правого» Шмитта или «левого» Бадью, которые в этом вопросе сливаются до неразличимости), побуждает наше мышление к критике бытия-вместе, в процессе которой само это бытие становится непрестанным переосмыслением, разделением (во всех смыслах слова partage2) того целого, которое мы — хотим того или нет — образуем совместно друг с другом.
Джорджо Агамбен, «Открытое. Человек и животное»
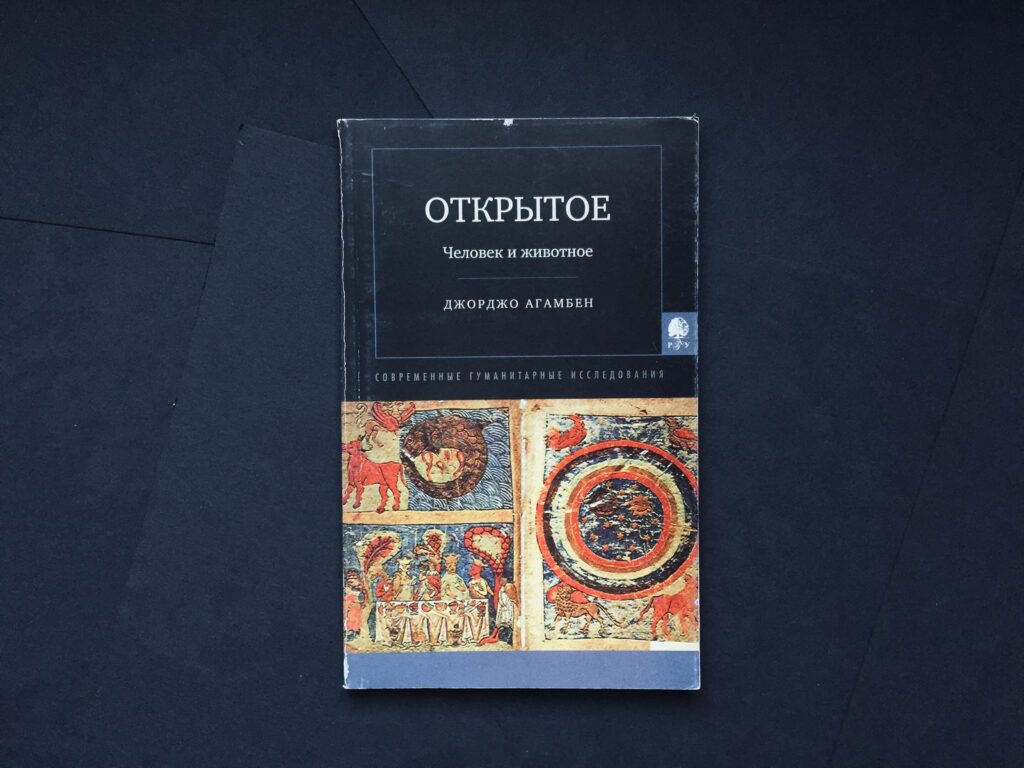
Один из самых смелых политических мыслителей настоящего времени, Джорджо Агамбен — даже при некотором методологическом однообразии — заслуженно может быть назван энциклопедистом, столь широк охват интересующих его тем: от юриспруденции до современного искусства и от биополитики до библейской экзегезы. Если подобный разброс и может сбить с толку неподготовленного читателя, то лучшим началом в знакомстве с Агамбеном ему послужит небольшая книга «Открытое» с говорящим подзаголовком «Человек и животное», в которой компактно собираются воедино, пожалуй, главные темы агамбеновской философии. Весь стройный ее массив вырастает из базового онтологического различения языка и бытия, а далее — из неразрывно связанного с ним антропологического различения человека и животного, которое, по Агамбену, и обуславливает всю нашу политическую историю. Человек, это сложносочиненное существо, живет как раз в этом разрыве из конституирующих его различий, причем граница этих различий сама по себе нестабильна и исторически переменчива: стремясь наиболее полно включить в себя бытие, язык (или дискурс) проводит всё новые и новые различения между животным в человеке и собственно человеческим в нем, всякий раз возвышая, ставя в позицию власти одну свою часть и одновременно принижая, отбрасывая куда-то во внешнюю тьму часть другую. В этом болезненном самоопределении политическое животное «человек» вершит над собой радикальное дискурсивное насилие, следствием которого неотвратимо становится и насилие физиологическое — как за идеологией о том, что какие-то категории граждан на деле оказываются не вполне людьми, с неизбежностью следуют расправы, погромы и газовые камеры. Агамбен, в своей многоступенчатой критике насилия развивающий вслед за Фуко категорию биополитики, настойчиво и убедительно демонстрирует, как говорящее человеческое существо из себя самого выделяет свое иное, извечного своего врага — обрекая себя на неизбывную внутреннюю рознь, бесконечно производимую этой пугающей антропологической машиной различий, из раза в раз превращающейся в машину господствующего насилия.
Мераб Мамардашвили, «Сознание и цивилизация»

Пускай Мамардашвили нельзя назвать всецело политическим философом, всё же события последних лет его жизни, совпавших с последними годами жизни СССР, задали его мышлению отчетливо политический вектор. Это особенно видно по сборнику «Сознание и цивилизация», в который вошли интервью, выступления и доклады философа преимущественно конца 80‑х годов. И хотя все эти тексты, как правило, вызваны разными поводами и, соответственно, посвящены ситуативно различным проблемам, все они связаны отчетливо проступающим в них единым сюжетом, который, несколько упрощая, можно было бы обозначить понятием «политической ответственности мышления». Критик и одновременно последователь экзистенциализма (а также породившей этот последний феноменологии), Мамардашвили на разных, в тот момент чрезвычайно злободневных, а в этот момент чрезвычайно созвучных нашей повседневности примерах показывает, что человеческое сознание, которое любят как бы по умолчанию гуманизировать, само по себе еще не означает ни этики, ни ответственности, ни свободы. Напротив, настоящее мышление требует дискретного, подчеркнуто неавтоматизированного акта, который философ попросту именует «усилием», и только благодаря такому усилию хрупкие «умные» вещи, такие как добродетель и справедливость, оказываются возможными в нашем мире. Развивающие эту важную интуицию, размышления Мамардашвили вновь оказываются необычайно актуальны — а для кого-то, пожалуй, и душеспасительны — в тот самый момент, когда для нас вновь проблематизируется эта фундаментальная связка мысли и действия, разума и поступка. Примиряя эти когда-то разорванные категории, Мамардашвили не устает напоминать, что подлинный разум предполагает поступок, ибо без сознательного усилия не держится никакая мысль, тем более мысль политическая, в рамках которой следствием умственно-нравственной лени станет пугающий «принцип Кафки» или «ситуация зомби», в которой мышление вырождается через отказ от усилия и полную уступку своей субъектности дурным автоматизированным схемам восприятия. Иными словами, если вам порой кажется, что вы со всех сторон окружены зомби, зачарованно озвучивающими тв-пропаганду, вам будет полезно прочесть, как идентичную ситуацию объяснял один из немногих поистине значимых русскоязычных мыслителей советской эпохи.
Теодор В. Адорно, «Minima moralia. Размышления из поврежденной жизни»
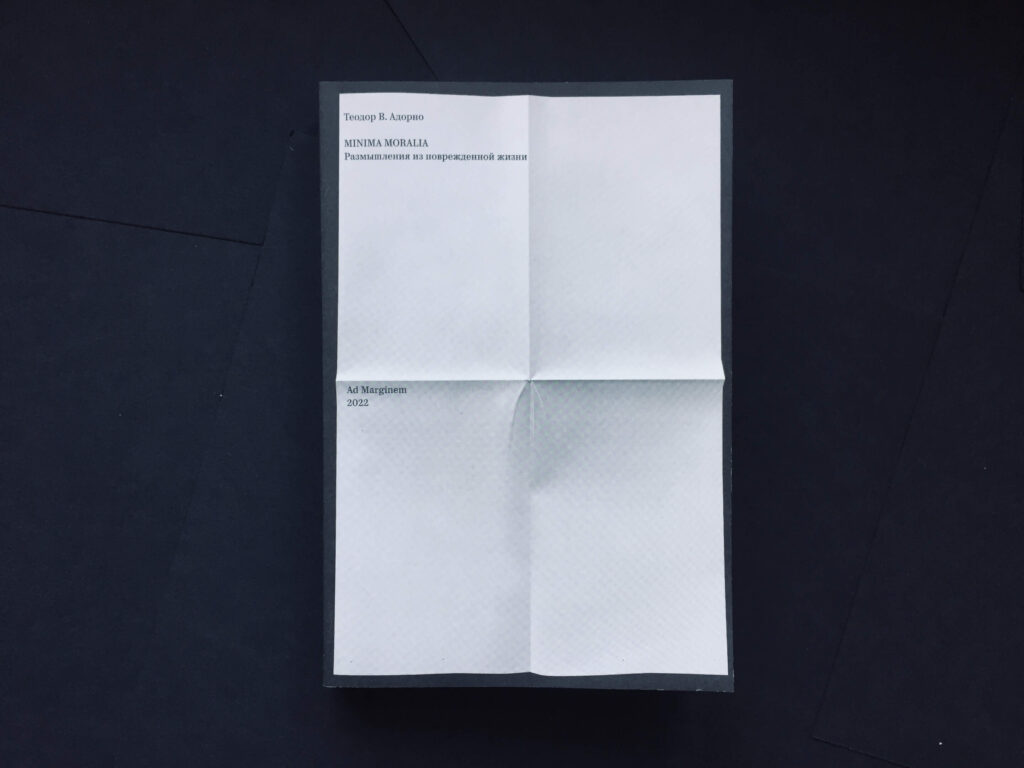
Однажды поставив вопрос о «возможности поэзии после Освенцима», Адорно тем самым вписал в критическую теорию мучительную бдительность ко всякой грядущей катастрофе, поименованной в продолжающейся «истории варварства» всё новыми и новыми топонимами. Всё это — и бдительность, и неотделимая от нее мучительность — его фирменные философские сигнатуры: по сути, Адорно от начала и до конца — это мыслитель катастроф, и чем катастрофы страшнее, тем беспощадней становится адорновская критика, точно увеличительное стекло, преломляющее палящий солнечный луч события. У такой критики свой, безошибочно узнаваемый стиль, по части вкрадчивой выработки которого «Minima moralia» кажется не в меньшей мере методологическим манифестом, нежели знаменитая «Негативная диалектика». Структура адорновской «малой этики»3, возникшей из самого наипестрейшего «сора» во время и после Второй мировой, и образует тот стиль мышления, который, по мнению автора, оказывается единственно возможным интеллектуальным эхом породивших его кошмарных событий. Фрагмент, обособленный и этим обособлением отрицающий «свое» целое, напоминает здесь образ руин, в которые Западная цивилизация превратила себя в процессе самоубийственной войны (хотя еще раньше Адорно приблизился к такой форме мышления вслед за Кракауэром и Беньямином, которые высвободили скрытую силу фрагмента — безделицы, бытовой вещи — для критики идеологической конструкции социального целого). Дьявол по старой привычке скрывался в деталях. Эта важная философская интуиция бурного межвоенного времени лучше многих других объяснила вскоре начавшуюся войну, она же способна прокомментировать и наше сегодня, которое, как выясняется, недалеко ушло от жутких реалий прошлого века. Тогда и сейчас «Minima moralia» — нелегкое чтение, однако сама эта сложность содержит этический принцип искать верный тон при разговоре о страшных, тяжелых событиях — а раз найдя, ему следовать. И снова — будто впервые — сталкиваясь с катастрофой, мы обнаруживаем, что именно этот «поврежденный» язык руин по-прежнему остается для разговора о катастрофах, наверное, наиболее адекватным — или (как минимум) наиболее честным.
Рене Жирар, «Завершить Клаузевица»
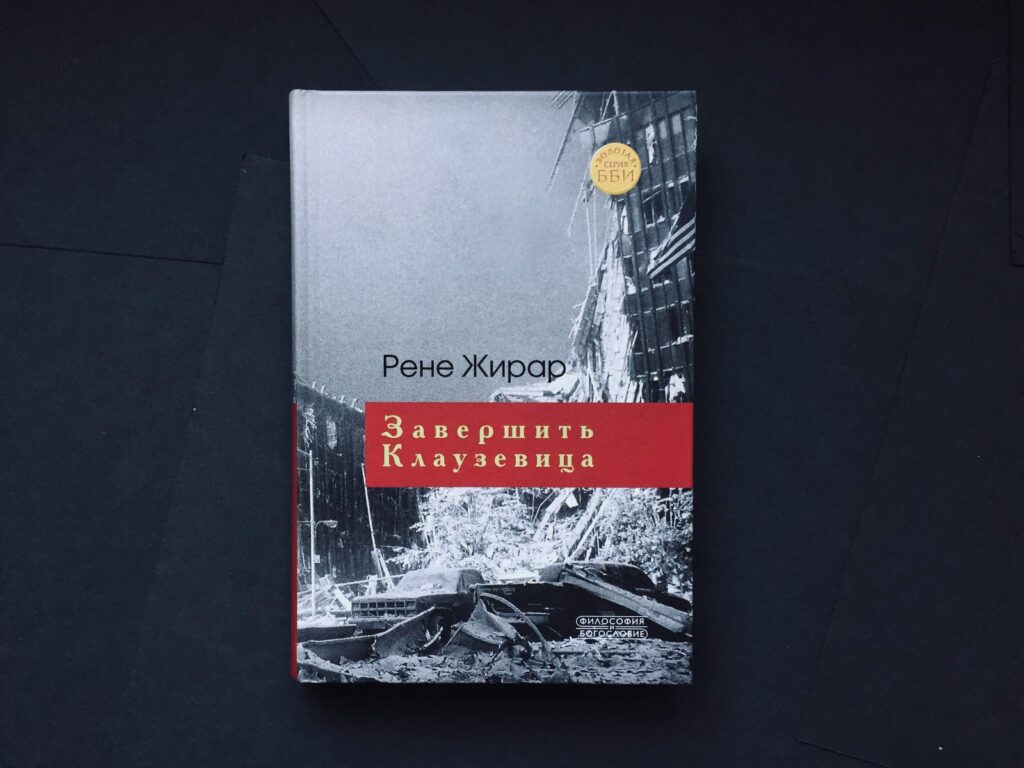
Один из виднейших в минувшем столетии теоретиков насилия, Рене Жирар в последней своей большой книге, структурированной как диалог, совершил-таки значимый переход от религиозного, антропологического насилия непосредственно к насилию военному, выдав на этом пути стройный ряд тезисов, без которых теперь уже непредставим философский разговор об актуальных мировых событиях. Именно война в ее современном — буквально, без всяких метафор, апокалиптическом — изводе служит той точкой, в которой жираровская логика насилия, отмеченная постоянным повышением ставок в миметическом конфликте двух неотличимых друг от друга врагов-близнецов, сходится с днем сегодняшним — днем ядерного сдерживания, плавно перетекающего в ядерное недержание. Неожиданным проводником Жирара в это дикое царство служит полузабытый теоретик войны, современник Наполеона и Гегеля Карл фон Клаузевиц — именно у него в наиболее чистом виде можно различить ту логику «устремления к крайности», в которой война постепенно выходит из подчинения у политики и становится всепоглощающим Абсолютом, огнем и мечом подчиняющим себе всю реальность без остатка. Во вкрадчивом жираровском разборе военной мысли Клаузевица мы можем найти объяснение многим ярчайшим чертам современного нам военного насилия, и прежде всего той зачарованной проекции, в пылу которой агенты насилия постоянно обвиняют друг друга именно в том, что только и делают сами («нас вынудили», «нам не оставили выбора», «нас втянули» — всё из того же репертуара). Устремление к крайности здесь и сейчас стало настолько всепоглощающим, что неотвратимое уничтожение мира по мановению волшебной ядерной палочки — как никогда смертоносной машины военно-технического комплекса, движимого примитивным миметическим соперничеством, — оказывается вполне ожидаемым исходом, о котором изо дня в день говорят как о какой-то бытовой банальности. Само собой, с чисто эмоциональной точки зрения было бы трудно читать книгу, с беспощадностью вскрывающую всю степень реальности этой угрозы самоуничтожения человечества, если бы автор не сохранил для читателя совсем никакого, пускай даже самого хрупкого, спасительного аргумента. Такой аргумент — пускай и по-жираровски радикальный — в книге действительно есть, но я о нем умолчу, оставляя читателю инициативу разгадать тайну этой и всех остальных в этом списке книг самостоятельно.
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Нем. уравнивание, унификация — принцип, обозначающий распространение нацистской идеологии по всему телу общества.
- Фр. разделение — в смысле деления на части и одновременно составления из этих частей некоторого единства (ср. «разделять участь»).
- Minima moralia — буквально «Малая этика», по аналогии с «Большой этикой» (Magna moralia) Аристотеля.