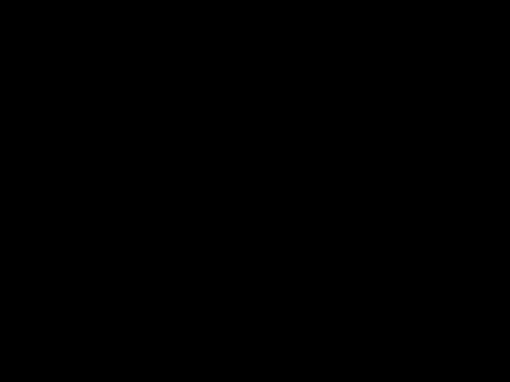Роман Сергеевич Осминкин
Теоретик современного искусства и поэзии, поэт, художник-перформер, куратор, участник кооператива «Техно-поэзия»
За прошедшие два десятилетия мы наблюдали, как ирония из постмодернистской языковой игры превращалась в последнее прибежище культурной и политической (нео)реакции. Постмодернистская ирония высмеивала претензии на истинность любого дискурса, держалась на имитации, игре и инсценировке мертвых идеологий и стилей дистанцированными от них, децентрированными, мерцающими, разорванными субъектами, где любой автор, понятый как способ группировки текстов, мог быть сымитирован, идентификация вымышлена, идентичность разыграна. Но сегодня такая ирония вместо утверждения плюралистической вселенной все чаще воспроизводит охранительную риторику, и более того — в радикальной своей форме внутри цифровой демократии вырождается в троллинг и хейтерство. Проблема нынешнего недоверия к и ощущение исчерпанности иронии состоят в том, что она из эпистемологического метода перешла в разряд онтологических условий самого постмодернизма. Проще говоря, постмодернизм стал восприниматься не как набор иронических стратегий по отношению к модерну, а как эпоха тотальной иронии, переходящей в милитаризованный цинизм. Эту онтологизацию постмодернизма, хорошо показал в своей статье «Псевдоморфоза: Реакционный постмодернизм как проблема» литературовед Марк Липовецкий, приведя цитату из книги Тимоти Бьюеса «Цинизм и постмодерность»: «…постмодернизм понимается как онтологическое описание состояния объективной реальности (разрушение метанарративов), нежели как стратегия концептуального отношения к объективной реальности (“недоверие к метанарративам”). Таким образом, постмодерность, так сказать, материализуется, трансформируясь из серии критических гипотез в новейшую манифестацию Мирового Духа (Geist), воплощающего в свою очередь наивысшую точку прогресса»1.
Сегодня вроде бы уже возник целый набор новых ‑измов, собранных под зонтичное понятие «постпостмодернизм», которые говорят нам, что постмодернизм как культурная логика умер. Но вторая и по сути произведшая его на свет составляющая — поздний капитализм — практически отождествился с постмодерной реальностью (от биополитики Фуко до капиталистического реализма М. Фишера и фармакопорнокапитализма П. Пресьядо), не оставляя зазора для иронической дистанции. Если по отношению к идеологии можно было дистанцироваться через язык, сопротивляясь семиотически, то современная биополитическая диктатура досемиотична, она проходит сквозь нас как машина реальности. Эту линию постидеологического состояния общества после конца холодной войны хорошо в своих многочисленных книгах проводит Жижек, показывая, что преобладающий настрой современной «пост-идеологической» вселенной — это циничная отстраненность от общественных ценностей. И современному неофашизму свойственна как раз такая ироничная отстраненность, он становится все более и более «постмодернистским», игривым и цивилизованным. Жижек видел стратегию борьбы с таким конформным цинизмом не через ироническую имитацию, а через сверхотождествление (пресловутая subversive affirmation), приводя в пример тревожный триггер просвещенных левых критиков — словенскую группу «Лайбах», разоблачающую теневую «сверх‑я»-изнанку системы. Но сурковская и сегодняшняя Российская постидеология вполне оседлала и этот метод подрывного сверхотождествления. В итоге сегодня мы наблюдаем, как племянник Путина Рома Путин создает партию «Народ против коррупции», национал-патриотический писатель-комбат Захар Прилепин создает движение «За Правду» (так и хочется добавить за пост-правду) и заявляет на чистом глазу о том, как участвовал в боях на Донбассе, руководя батальоном имени себя. И это без учета многочисленных парамилитантных объединений православных фундаменталистов, байкеров и ряженых казачьих дружин. Пространство между идеологией и ее изнанкой схлопывается. Наружу швами торчит цинизм, милитаризированный посмодернизм эпохи постправды не оставляет зазора для иронии. Лучше всего это охарактеризовала после своего освобождения Надежда Толоконникова, вынужденная констатировать, что после национал-консервативного поворота 2014 г. художник «по существу оказался безоружен: его эстетику, формат радикальных перформансов перехватили люди власти, люди, которые устроили такой кровавый маскарад на юго-востоке Украины. <…> Когда государство ведет себя как панк, художник должен вернуться к простому серьезному высказыванию, измениться принципиально». Это высказывание будто подытоживает смену карнавально-анархического искусства арт-групп Война и Пусси Райот на серьезное политическое искусство Петра Павленского. Но Павленский не смог (да и не мог) быть примером нового серьезного художественного высказывания — он скорее «героическое» исключение из правил.
Но следует ли из вышесказанного, что иронию нельзя использовать и нужно быть предельно серьезными? Или ирония не отрицает серьезность? Линда Хатчеон критиковала Ф. Джеймисона как раз за приравнивание постмодернистского пастиша/пародии к ностальгии по настоящему, закрывающему путь к будущему, историческому мышлению и утопическому воображению за пределами капитализма. Но у иронии по Хатчеон есть двойное дно — она использует свою подрывную внутреннюю позицию и «ведет разговор с потребителями в капиталистическом обществе таким образом, чтобы мы могли, так сказать, попасть туда, где мы живем»2. То есть, по сути, это ирония как внутрихудожественное риторическое, языковое средство, которое само по себе ни хорошо, ни плохо. Может быть такую иронию имел в виду Жижек в качестве одного из средств снятия и разрешения многочисленных неприятных аффектов, на которые делает ставку неофашизм. Вместо толерантного дискурса, вытесняющего нежелательные аффекты, Жижек говорит о самопринятии оскорбительных или неполиткорректных слов через их переозначивание. Для этого словенский политпсихоаналитик приводит историю из своего армейского прошлого, где он обменивался нецензурной бранью в отношении матерей со своими сослуживцами, но эта брань от своего обыденного повторения стала дежурным приветствием. Что-то подобное произошло в свое время со словом квир, а сейчас попытался сделать в своем клипе Андрей Петров со словом пидор. Подобную операцию производит, по моему мнению, и радикальная феминистская поэзия. Та же Галина Рымбу может использовать речь сексистов внутри своих стихов, переозначивая мизогиничную «пизду» и ее многочисленные сексистские производные в «вагину» и переприсваивая тем самым себе удовольствие от акта письма. Но убеленные сединами вчерашние постмодернистские ироники и ерники прочитывают фем-поэзию наивно (сиречь серьезно, но нерефлексивно) — на чистом глазу подпадая под референциальную иллюзию — вагина как внетекстовый референт — нечто живое отвратительное кровоточащее, запретное, слишком не-поэтичное, не метафоричное, а медикалистское (помнится ещё Фуко писал, что его письмо — надрез скальпелем). Сегодня я бы предпочел говорить о множестве разных ироний, о необходимости вернуть радикальную остроту и глубину иронии, применяя ее по ситуации для усиления своей позиции, как риторический инструмент, средство разрядки, переприсвоения (détournement) апроприированных неофашистским цинизмом значений и реактивации купированной семиокапитализмом критики3.

Теперь немного о своих собственных напряженных взаимоотношениях с иронией. Я пришел в современную русскоязычную литературу довольно поздно, в середине нулевых, когда большинство иронических стратегий постмодернизма были худо-бедно усвоены постсоветской культурной логикой. Концептуализм в его позднесоветском изводе сделал иронию и ироническую дистанцию главными операторами и условиями концептуального отношения к объективной реальности, позволяющей производить критику метанарративов и Истин с большой буквы. Но с крушением советской идеологии вся острота иронии и ее ироническая дистанция стали ничем иным как удобной аполитичной позицией приватного индивида, вяло покритиковывающего или вовсе не замечающего реалии серых будней. Такая холодная отстраненность не удовлетворяла новое поколение поэтов (а я здесь ограничусь этой стратой культурных производителей) и вскоре — не в качестве ответа, но в логике отталкивания — возник постконцептуализм, который перевел постмодернистскую иронию на себя, сделав ее перформативной самоиронией. Да, я знаю, что высказывание от первого лица невозможно, но я его все равно его делаю, но делаю не так, как в классическом примере из Умберто Эко, где всякий внутри системы постмодернизма обречен вместо признания «люблю тебя безумно» говорить/писать «по выражению розовых романистов, люблю тебя безумно». Постконцептуалист говорит «я люблю тебя безумно», осознавая всю банальность, заезженность и истертость этой фразы, но самим своим речевым актом, исповедальным ли или взыскующим истину (претендующим на истинность) как бы на новом диалектическом витке разрывает «дурную» интертекстуальность, перформативно учреждая новое пространство высказывания. Д.А. Пригов называл это «новой искренностью», но работал с ней как с очередным концептом, возвращением к «традиционно сложившемуся лирико-исповедальному дискурсу». Реакционный извод этой искренности в творчестве Е. Гришковца казалось бы исчерпал потенциал данной стратегии. Но некоторые находят ее отголоски под маской метамодерна. Овладевшие сегодня интернет-массами постирония и метамодернизм, чья логика описывается осцилляцией между «постмодернистской иронией» и «модернистским энтузиазмом»4, в российской литературе были освоены еще постконцептуалистами5.
Из этой изначально самоироничной постконцептуальной позиции во многом сформировалась моя авторская субъективность. Но с периода своей политической субъективации (участие в Уличном Университете в 2008-09 и протестах 2011-12 гг.) я поставил эту постконцептуальную самоиронию на службу пересборки себя как коллективного субъекта, выразителя новой — на тот момент левой — чувственности. Тот же Липовецкий, сравнивая мою поэтику с методом Пригова, писал, что если у Пригова предлагалась строгая дисциплина «незалипания», то «у Осминкина пролетарское “мы” вытесняет самоироничное и фрагментированное постмодернистское “я”. Осминкин предается утопическим мечтаниям о гармоническом слиянии поэта и ревкласса в некоем фантастическом существе “поэтарии” (поэт+пролетарий)»6. В нашем музыкально-поэтическом кооперативе Техно-Поэзия нам удалось спекулятивно материализовать это «пролетарское “мы”». Благодаря коллективной работе и включению в нее представительниц феминистского искусства и лгбт-активизма наш кооператив стал куда более изобретателен в художественном плане, а также радикален и более открыто ангажирован в политическом. Я надеюсь, что внутри него даже несобственно-прямая речь и самоирония работают как аффирмативные и критические операторы, спекулятивно утверждающие структуру новой чувственности, а не просто горько иронизирующие над ситуацией, складывающейся в постконституционной России.

Иван Стрельцов
художественный критик, редактор Spectate
Воспитанное двадцатым веком представление о демократической норме, установившейся после Второй мировой войны и падения Советского Союза, создало не только состояние бытия-вместе — о чем пишет, например, Жан-Люк Нанси — но и пространство постоянного шифра уязвимых и уязвленных сообществ: когда мы при приеме на работу скрываем свои соцсети, когда идеологии упаковываются в мемы, когда вместо политической позиции мы обращаемся к горькой бессильной усмешке. Ирония становится формой отклика этих сообществ на их маргинализацию, на утрату власти или на ее историческое отсутствие. Этот современный мир бытия-вместе стал бытием-вместе-постольку-поскольку, где мы должны сосуществовать с «потомками» авторитарных режимов прошлого на одних и тех же руинах универсального знания и общей, но вчерашней истории. Тем забавнее, что мы — такие же «потомки». Ирония становится интегральной характеристикой, описывающей функционирование этого мира, когда мы одновременно и смеемся о провалившейся утопии, и плачем по ней.

Лера Конончук
культуролог, художественный критик, редактор Spectate
Сегодня — в условиях политической рокировки, когда правые популисты активно и со смаком используют излюбленные стратегии художественного сообщества: сарказм, стеб, субверсивную сатиру и трансгрессивный юмор, а либеральные левые, наоборот, оборачиваются завзятыми консерваторами, накладывая все более жесткие ограничения на то, о чем можно и нельзя шутить — вопросы комического, кажется, все больше ведут к этическому тупику. Среди теоретиков за последние пару лет было приведено довольно много справедливых аргументов против использования иронии как реакционной стратегии, которая преступно нивелирует важность и специфичность проблемных и щекотливых тем в пользу циничного самодовольства. Иронизировать — значит уравнивать закоснелое и справедливое, дистанцируясь от необходимости и риска занимать позицию. Соглашусь, что в иронии далеко не всегда найдется критический запал, однако это не значит, что она автоматически становится реакционной. Ирония и юмор, как и искусство, способны не только остранять и релятивизировать общественные нормы, но и укреплять их, и так было всегда. Нужно признать, что юмор может быть и конфликтным, и объединяющим, и уничижительным, и триумфальным, но, как справедливо отмечает в своем последнем труде Терри Иглтон, это не обязательно должны быть две стороны одной медали.
Те, кто вовлечены в создание эмансипаторной политики и строительство справедливого мира, часто не самые лучшие отображения того, что они надеются создать, и вполне объяснимо и нормально, что они или какие-то их действия вызывают скепсис. Любая вера влечет за собой скептицизм. Проблема и ошибка некоторых защитников политической корректности в том, что они стремятся подавить, удалить и выкорчевать любые противоречащие ей импульсы. Но практика вытеснения ведет только к тому, что подавленное находит мощный выход в неожиданных местах — и это как раз всегда играет на руку правым. Важно помнить, что практика комического — мощнейший способ справляться с напряжением, не накрывая его крышкой, выходить из тупика смущения и разрешать нарастающую неопределенность, которая возникает в усложняющейся действительности при оттачивающейся чувствительности к этическим закавыкам. По-настоящему здоровым можно было бы назвать то общество, которое было бы способно переварить юмор на любую тему.
Однако на текущем этапе, когда общество хронически болеет, новые нарывы нарастают, а старые еще не зажили, важно прояснять, из какой позиции шутят или иронизируют: сильной, мажоритарной, или, наоборот, субординированной. Безусловно этически оправданы пока только юмор и ирония последних, призванные вернуть уверенность, преодолеть страх, установить чувство общности. Такие юмор и ирония становятся важным элементом здоровья: для того, кто шутит, это не только возможность вернуть себе право на артикуляцию болезненного, но также и способ говорить о травме не впадая в пафос, тремор или кликушество.
В этих условиях особенно ценен тот юмор, которому удается проблематизировать само комическое и его уместность. Скажем, принадлежность к ЛГБТК+ подчас означает легкое превращение в мишень для шуток, с чем справляются через упреждающую самоиронию (неудивительно, что среди стенд-ап-комедианток столь существенное число квир-персон). В своем шоу «Нанетт» 2018 года австралийка Ханна Гэдсби, после искрометных шуток над собой, «тихой лесбиянкой» в эпоху прайдов, и последовательного препарирования полной травм биографии (Гэдсби родилась в месте, где всю ее юность гомосексуальность была криминализована), ставит вопрос ребром: сколько можно умасливать аудиторию самоистязанием, если ты и так перманентно объект издевок? В финале, больше похожем на исповедь, она объявляет, что навсегда покидает комедию, которая будто бы способна только усугубить угнетение. Однако показательно, что в следующем году Гэдсби все-таки возвращается на сцену. В новом шоу «Дуглас» она с новообретенной уверенностью (вероятно, закаленной шквалом негативной реакции на предыдущее шоу; «Моя вакцина — это ваша ненависть») разносит патриархальные предрассудки и под конец разворачивает историю о диагностированном у нее аутизме. У Гэдсби юмор и самоирония имеют, конечно, терапевтический эффект, но также работают как эффективная приманка-обманка: зрители приходят на стенд-ап-шоу о самоироничной лесбиянке, которая острит о собственном телосложении, застенчивости или гендерной путанице, а получают некомфортное заявление об исторически закрепленных механизмах притеснения и систематическом насилии.
Аленка Зупанчич очень удачно делит комедию на stand-up и sit-back. «Стенд-ап комедию» словенская философиня не приравнивает к жанру живых выступлений; это в целом юмор, который вызывает у аудитории неудобство, выводит из зоны комфорта, потенциально трансформируя отношение к острой теме. «Сит-бэк комедия», наоборот, позволяет зрителям или слушателям высокомерно посмеяться над необразованными, неловкими или какими-то еще «не такими» другими, укрепляя в себе чувство самоуспокоенности и превосходства. «Сит-бэк» — это условный «Камеди-клаб», где по сей день стреляют предельно унылыми мизогинными и шовинистскими гэгами. «Стенд-ап», впрочем, это не обязательно шутки над сильными, а «сит-бэк» — над слабыми и уязвимыми. Шутки над Трампом вполне могут проходить как «сит-бэк», если это остроты с минимумом риска на фоне общего консенсуса, то есть производятся для слушателей, и так объединенных презрением к его необразованности, грубости и краснобайству7. Настоящая стенд-ап комедия часто выходит за рамки приличий и не останавливается перед тем, что может задеть аудиторию, если имеет целью выявить не индивидуальные промахи или низость и «недоразвитость» отдельных групп, а воспроизводство угнетения, несправедливости или откровенный системный абсурд.
В искусстве «стенд-ап комедию» найти сложно, но можно — у Хито Штейерль, в видеоработах Апичатпонга Вирасетакула и Кёкена Эргуна. Еще один удачный пример — инсталляция Фатимы аль-Кадири и Фарида аль-Гхарабалли Mendeel Um A7mad (NxlxSxM) (2012). Видео сфокусировано на оживленном разговоре четырех нарядных подруг в богатом кувейтском доме (правда, вместо гостиной мы видим фойе гранд-отеля). Помимо прочего, женщины сокрушаются о видимом квир-присутствии в общественном пространстве («Девушки повсюду держатся за ручку со своими буч-подружками», «В этой стране мужчин теперь не отличишь от женщин»), что в сопряжении с тем, что каждую из собеседниц играет мужчина, выглядит предельно забавно. Понимание степени неконформности комедии, которая не ограничивается выпадом в сторону недалеких кувейтских кумушек, приходит на титрах, где указано имя только одного из четырех актеров. Остальные представлены инициалом — следствие того, что в Кувейте уголовно наказуемы любые действия, квалифицируемые как «подражание противоположному полу», и трансгендерам грозят серьезные штрафы и тюремное заключение.
Лучший юмор, конечно, — тот, который не просто дает разрядку скопившемуся напряжению, а проблематизирует, трансформирует и освобождает.

Мария Королева
художественный критик, редактор Spectate
Десять лет назад был популярен такой жизненный стиль: ничего никогда не говорить всерьез. Именно про это не пишут в глянцевых журналах, внезапно озаботившихся этикой, которые я иногда посматриваю: пишут про историю стендапа, Ксению Собчак — про что угодно, кроме незадокументированной жизненной материи того, какими мы были. Некоторые, вроде меня, вступали в негласный сговор с отдельными людьми: если кто-то первый скажет что-то без подковырки или двойного дна, тот, вроде как, сдается — как зверек показывает пузо. А другие вообще, может, только в полиции на допросе шуток не шутили. Когда я лежала в больнице с сотрясением, тетечка, приехавшая из реанимации, когда не бредила — похихикивала, рассказывая про свой массажный салон; пожарники у папы на кухне разговаривали в густом сигаретном чаду про жён, а может, не только, и выпивку, а не про закат рабочего движения; дядьки политологи в моей редакции по сотому разу шутили про массовые расстрелы и каждый раз ржали в голос. Невыносимые были люди. Один мой друг всегда со своей мамой какими-то приколами перекидывался; тут вдруг она заболела, позвала его вечером новости ей почитать и серьезно о каких-то делах заговорила в мире, в семье. Он испугался, что все, останется один, с отцом и младшими братьями-оболтусами. Но нет, обошлось.
А сейчас часто на фейсбуке так бывает, что пишет кто-то серьезный пост, а в комментах — одни шаблонные подколки, придуманные на кухне сто лет назад. И что это должно значить? Что автор — дурак, тема — глупая, тупо говорить о чем-то серьезно, или что сам комментатор мыслит штампами, следовательно, не существует? Впрочем, понятно, что эти люди хотят сказать: что весь сегодняшний протокол общения лжив, и эти не очень уместные комментарии — просто неудачная попытка протестовать. Смена с оффлайнового на онлайновое, где все пытаются себя преподнести парадно и товарно-заманчиво, поэтому то и дело толкают серьезные идеологические телеги, сменила и правила игры. Но какая разница, чем набирать себе политические очки: смехом над угнетенными или елейными речами, за которыми обычно скрывается и похуже мерзость? Идиотская сегодня ситуация? — Вполне. При этом, если с тобой в городки играют, глупо бегать и всех салить. Достигающий цели протест тоже предельно серьезен. Но есть и другой аспект наших шутеек.
В свое время в универе я изучала юмор «Монти Пайтона» — гротескные, странные сценки, придуманные в противовес господствовавшей всегда сатирической словесной игре. Совершенно ироническим образом возвращаюсь к этому сейчас, изучая Фредерика Нейра и современный экзистенциализм. Он пишет8, что мысль всегда где-то «не здесь», «не в этом порядке вещей», поэтому видящий себя свободным человек скорее всего имеет чувство юмора, просто оно совершенно особенное. Она или он своим странным юмором сигнализирует те же вещи, что и раньше: я не сдаюсь, не сдавайся и ты. Я вижу в этом этический призыв не шутить как было принято раньше, не играть в игры, в которые играют сейчас все, а находить траекторию плавания, как в древнегреческой классике. Хотя, признаюсь, часто это кажется почти невозможным.

Коинсидентальный институт
Алек Петук, Йоэль Регев
«…Должны ли мы реабилитировать иронию?» — так заканчивалось письмо редакторки с предложением поучаствовать в этом блице. Конечно, оно вырвано из контекста, но в этом письме нигде не раскрывался тезис о том, что в последнее время ирония как-то пострадала, чтобы мы сели и задумались над тем, надо ли нам ее как-то реабилитировать. Были ли ирония репрессирована и кем?
Мы думаем, что сегодня речь идет о культурной ситуации, которая является результатом битвы, развернувшейся в искусстве XX века. Ирония стала одним из основных инструментов т.н. постмодернизма. Объектом критики для художников-постмодернистов, с одной стороны, было искусство модернизма, которое активно музеефицировалось после второй мировой войны. Художники получали признание и в каком-то смысле превращались в тех, кому они противостояли в свое время. С другой стороны, атака велась на большие нарративы (и сопутствующие им идеологии), которые после катастроф первой половины века казались одновременно и опасными, и невозможными.
Концептуальной базой такого искусства стала пост-хайдеггерианская философия. Методологически же художники зачастую прибегали к иронии, объектом которой становились проекты истории и значимые произведения искусства.
Если описывать иронию жестово-пластическим языком9, мы получим процедуру шага в сторону или механизм поскальзывания. Если мы имеем в своем распоряжении только иронию, то лишаемся возможности ходить прямо, потому что за каждым новым шагом в сторону следует такой же следующий, а идеалом становится нахождение в состоянии постоянного падения (никогда, впрочем, не завершающегося ударом). Постмодернистский мир и был таким бесконечным набором шагов в сторону, соскальзыванием и укладыванием всего существующего в хармановскую горизонтальную онтологию. Хочешь пойти прямо? А не боишься ли ты иронической реакции тех, кто давно и последовательно шагает в сторону и поскальзывается?
Такого рода подход и был репрессирован «философской революцией 1989 года» — проектами Бадью, Жижека, Мейясу. Здесь речь шла о возможности вновь говорить о субъекте, истине, абсолюте и перестать наконец поскальзываться. Потому что, честно говоря, этот акробатический трюк за пятьдесят лет уже успел всем изрядно надоесть.
Проблема, однако, в том, что этот новый поворот одновременно оказался ознаменован приходом «новой серьезности». Бесконечные анекдоты Жижека не должны вводить в заблуждение: философия «нового абсолюта» чересчур тяжеловесна, в ней мало веселья (что достигает своего апогея в разного рода «новых этиках»). Поэтому, если уж и говорить о чем-то, то не о реабилитации иронии, которая совершенно справедливо была помещена в исправительный лагерь «новых серьезных» — а о новом шаге, ведущем к подлинно веселой науке. Именно создание такой науки и является главной целью Коинсидентального института.
В любом случае, каждая новая ситуация, которая возникает перед нами и навязывает себя часто требует различных инструментов и их совместного использования. Как в боксе или борьбе: сначала шаг в сторону, потом сгущенный удар и/или столкновение, за которым следуют минуты отдыха и т. д.

Комментарий к‑инженера:
«Любая ситуация может быть прочитана по-разному. Например, в свое время на меня оказали сильное влияние работы Аллана Макколама, признанного художника второй половины XX века. Мне всегда казалось странным привычное прочтение его произведений через иронию по отношению к модернистской скульптуре и живописи. Его художественный метод — это тиражирование 10 000 и более экземпляров небольших объектов, сделанных в виде абстракций, напоминающих формальные поиски модернистских художников. Ироническое прочтение как раз критикует претензию на оригинальность и значимость художников начала XX века и указывает на то, что это лишь дурная бесконечность форм.
Я же, напротив, долгое время смотрел на Макколлама именно как на уникального художника, создающего за счет повторения различного (все из 10 000 экземпляров, входящих в одну работу, были разными) интересные чувственные среды для самого зрителя, который в момент встречи с подобным затягивающим искусством мог даже забыть, что существовал кто-то еще, над кем обязательно надо поиронизировать, чтобы поставить его на место».
Опыт с Макколламом подчеркивает важный момент: то, что читается иронически, всегда имеет за собой материальное основание, которое может быть прочитано без субъективных искажений.

Серое Фиолетовое
анархист_ка, поэт_ка, перформер_ка, редактор_ка журнала «Нож»
Думаю, что тем, на которые «запрещено шутить» не существует. В целом, меня сильно расстраивает тот нынешний вектор восприятия, в котором борьба с любыми «проявлениями ксенофобии» ставится гораздо выше свободы слова.
Общество предписывает всем, в том числе и нам, представителям миноритарных групп, быть очень серьезными и сохранять предельно постно-агрессивные лица, рассказывая о своей, всегда такой трагичной жизни. А то не дай бог девальвируешь героическую активистскую борьбу со злом.
Ирония — это, прежде всего, базовый элемент повседневной свободы. Ее не нужно ни реабилитировать, ни хоронить — она всегда с нами. Сторонницам же звериной серьезности, больше всего боящимся, что над ними кто-то поржет, можно только предложить проследовать в одном направлении: создать свою собственную новую церковь и проводить ОЧЕНЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ службы во славу сферической угнетенной в вакууме.

Дима Хворостов
художник
После пост-модернизма остается только орать?
Претензии и критика, обращенные в сторону иронии, с которыми нам сегодня приходится разбираться, появляются в ситуации определенного методологического кризиса левой мысли. Это кризис наступает одновременно с триумфом левых идей, во всяком случае, в культурной политике западных стран. Последовательное уничтожение всех возможных властных онтологий привело к ослаблению аргументов в пользу самой левой установки и появлению того, что называют «правой деконструкцией», «тёмным делезианством» и т.д. Левый критический инструментарий сегодня переходит в руки их политических оппонентов и вполне эффективно используется уже против своего собственного источника. Обидное ослабление левой позиции подталкивает к поиску новых форм интеллектуального и политического сопротивления. Их, на мой взгляд, — две, они крепко связаны, и обе — не в ладах с иронией.
Первая форма — это то, что можно назвать фундаментализацией левой позиции. Речь идет о том, что несмотря на то, что левые признают некоторую онтологическую слабость, они должны свято верить в то, что именно их чаяния и надежды, их вариант будущего — единственно верные. К этому подводит не только политическая необходимость здесь и сейчас отстаивать свои идеалы любым возможным способом, но и философский дискурс Рорти с его идеей либеральной иронии; и позиции Жижека, который как-то обмолвился, что, мол, левым стоит кое-чему поучиться у фашистов, а именно — в ожидании господина; а также Попперовский «парадокс толерантности». Мы являемся свидетелями этой фундаментализации, мы наблюдаем левацкий вариант поиска ведьм, который часто выражается не только в обличении криптофашистов, но и в паранойяльно перевернутой фигуре «все то, что мне мешает действовать, ослабляет меня и критикует — это и есть фашизм». Эта фундаментализация левой позиции (в своих актуальных радикальных формах) приводит к усилению поляризации в обществе и, в конце концов, выступает с милитаристским «кто не с нами, тот против нас».
Вторая форма нового политического сопротивления — это то, что можно назвать вслед за Эрихом Нойманном «новой этикой» — крайне популярная сегодня тема для всевозможных панельных дискуссий и журнальных статей. Суть ее в том, что раз мы не можем положиться ни на онтологию, ни на этику больших групп, то в центре наших рассуждений должна быть личная ответственность и индивидуальная рациональность. И это оказывается довольно хрупкой почвой, так как рациональность возникает не на пустом месте — она уже отравлена глубинным релятивизмом. Серьезно полагаться на неё довольно сложно, это большой труд, который, как мне кажется, рано или поздно должен логически привести к окончательной сдаче левыми своих позиций. Поэтому место ответственности и рациональности заполняется массой эмоциональных инвестиций, связанной как раз с фундаментализмом убеждения в своей правоте. Высшая форма новой этики — истерика, то есть максимально возможная эмоциональная инвестиция индивидуума. Истерика становится положительным моральным качеством, инструментализируется и охраняется, как естественный маркер наличия подавления со стороны больших нарративов.
Теперь собственно об иронии. В самом широком смысле ирония — это риторический прием, когда подразумевается противоположное тому, что говорится. Классическая (она же и модернистская) ирония имела в качестве своего основания буквализм: читатель должен был догадаться, что же за ней стоит. В статье Юрчака о разнице в методах Пригова и Курехина именно Пригов объявляется представителем такого рода иронии. Это кстати отдельный вопрос — действительно ли Пригов был таким безоговорочным модернистом, то есть использовал различные постмодернистские стратегии, но всегда действовал во имя определенной не подвергающейся сомнению ценности? Однажды Пригов в общении с Курехиным проявил себя все-таки как модернист, заявив, что шутить можно не обо всем, и осудив шутки Курехина о холокосте. Курехин же, будучи более последовательным постмодернистом, в полной мере осознал авангардизм иронических стратегий и фактически был первым, кто в России преодолел модернизм в этой области. Этот метод получил название пост-иронии. И именно она сегодня способна вызвать жесткий баттхёрт у представителей различных фундаментализмов. Кстати, не только левых.
Современная критика иронии часто скатывается к довольно странной констатации своей интеллектуальной беспомощности: им непонятно, Сэм Хайд — это серьезно или нет? Это замешательство — вызов для тех, кто делит мир на черное и белое, на своих и чужих. Но что более важно, это удар по этике и этическому эссенциализму, то есть по тем, кто в это разделение инвестирует колоссальные эмоциональные силы. Эти инвестиции (в пределе истеричные) сами по себе — хрупкие (стыдные), так как являются ничем иным как публичным предъявлением своего причинного места желания. В общем, это стыд, и пост-ирония занимается предъявлением этого стыда. А это простить уже очень сложно, ведь то, на чем паразитирует пост-ирония — это ваши искренние чувства и желания, это ваш личный вклад в развитие общества и т.д. и т.п.
Пост-ирония занимается презентацией конфуза как конфуза, без попытки как-то его разрешить. Таким образом она становится принципиальным оружием последовательного плюрализма и релятивизма — преодолевает остатки модернистского политического проекта за счет своей способности удерживать в себе сумму ингибиций, сумму противоречий. И если говорить об искусстве, то пост-ироническая презентация конфуза как конфуза оказывается просто более современной и свободной, нежели подавляющее большинство так называемого квир-искусства, которое вполне обоснованно обвиняется в некритической презентации своего собственного наличия: «вот оно я, венец прогресса».

Дмитрий Хаустов
историк философии и литературы, редактор Spectate
При всем изобилии разнообразных теоретизаций вокруг понятия иронии, отчетливо выделяется их общее ядро: ирония — это всегда про дистанцию, будь то дистанция по отношению к собственным помыслам (как в случае Сократа), будь то дистанция по отношению к художественному объекту (как в случае романтической или эстетской иронии), или даже дистанция к миру в целом (как в случае Кьеркегора или, на другом полюсе, в случае современной абсолютизированной иронии с дежурной приставкой «пост-»; разница, правда, в том, что для Кьеркегора этот «мир» — это еще не всё, тогда как для современных постиронистов он как раз «всё», и потому-то их ирония абсолютна). И если ирония — про дистанцию, то не приходится сомневаться в исходном ее, иронии, политическом потенциале, ибо дистанция — это во все времена высочайшая политическая ставка, достойная жизни и смерти, и ничто не доказывает это лучше, чем дьявольская ирония иных эмиссаров горизонтально-тотальной, декларативно не-дистанцированной или анти-дистанцированной политики.
О дистанции как о величайшей политической ставке написан известный текст Лео Штрауса «Преследование и искусство письма»10. В этом тексте классик политической мысли связывает искусство дистанции ни много ни мало с делом сохранения свободы и независимости мышления, в ХХ веке (эссе Штрауса было опубликовано в 1952 году) повсеместно находившимся под прицелом тотальной, анти-дистанционной политики. По мысли Штрауса, даже политическое «преследование» не помешает индивиду мыслить и выражать свои мысли свободно, но при условии — и это самое главное, — что он владеет кое-какими приемами выражения: «…преследование не может остановить даже публичное выражение “еретических” мыслей: человек с независимым мышлением может высказать свои взгляды на людях и оставаться нетронутым, если он, к примеру, передвигается с осторожностью и способен скрыться. Он также может высказывать свои мысли в письменном виде, не навлекая на себя опасность, если умеет “писать между строк”»11.
Политическая свобода (во всяком случае, свобода мысли и слова) связывается Штраусом с овладением определенными литературными техниками — «Для литературы результат преследования таков: под его влиянием писатели-бунтари развивают определенную технику письма — технику завуалированного изложения собственных идей»12, — каковой техникой по существу и является интересующая нас ирония. Будучи ироничным, художественно техничным, некий оппозиционер даже при самой глухой автократии сможет изложить своей публике истинные идеи, во всем отличные от идей официальных и даже враждебные им. Обходя стороной примеры Штрауса, любой читатель советских книг легко догадается, о чем речь: вспомним статьи, скажем, о «буржуазной» литературе, дежурно содержащие ближе к началу и ближе к концу «разоблачительные» цитаты в диапазоне от Маркса до Энгельса, но как раз между этим началом и этим концом содержащие истинное, часто высокопрофессиональное изложение своего предмета: античной драмы, рыцарского романа или куртуазной поэзии… Текст в данном примере разъят и разорван, одна его часть дистанцирована — то есть иронична — по отношению к другой; хорошее изложение предмета исследования иронизирует над дежурной цитатой из коммунистического катехизиса уже тем, что выставляет ее ритуальной, избитой, механически повторяемой и к делу, понятно, существенного отношения не имеющей. Хорошее советское литературоведение — а ведь оно, как правило, было именно что очень хорошим — оказывается образцом выдающейся политической иронии, искусно, технически — приемами «непрямой коммуникации» — обеспечивавшей существование свободной мысли там, где всё было против подобного существования.
Эссе Штрауса — политический гимн иронии, хотя сама «ирония» — умышленно ли или нет — названа в нем всего-то один раз. Но вот что особенно важно извлечь из этого текста в отношении нашей (пост-)современности. Штраус настаивает на различении: «непрямая коммуникация» всегда производит отбор между теми, кто сможет понять сказанное «между строк», и теми, кто примет всё сказанное за чистую монету; сам факт «непрямого высказывания» по необходимости разделяет реципиентов на тех, кто поймет его прямо, и тех, кто расшифрует его «непрямой» подтекст. Понятно, что здесь в очередной раз эксплицируется сущность иронии — дистанция: дистанция между сообщением и 1) его предметом, а следом и 2) его читателем, которая также конституирует дистанцию между 1) понимающим [иронию] читателем и 2) непонимающим [иронию] читателем. Указанные различия и дистанции подводят нас к мысли, что ирония никогда не бывает тотальной, она никогда не работает с оператором «все» или «всё»; как раз напротив, она возникает внутри тотальности, внутри «всего» (по Штраусу — внутри ситуации политического «преследования») с тем только, чтобы эту тотальность прорвать, в самом этом разрыве устроив пространство для существования и передачи свободной мысли.
Сказанное, как вы догадываетесь, существенно для кентаврического понятия «постиронии». В самом деле, если «всё» стало ироничным, то никакой иронии больше нет. «Всё» — не ирония, «всё» — ее антагонист, ведь неразличимость «всего» исключает дистанцию и различение, устраняет подчеркиваемый Штраусом иронический ранжир. «Всё», с относительным успехом рядящееся в одежды иронии, есть очередная обманка тотальности, вырывающей у свободного мышления его конститутивную дистанцированность, читай — не-включенность во всякое «всё». В этой, старой как мир, ситуации только искусное и техничное, литературно-ироническое восстановление дистанции обеспечит мышлению тот квант свободы, который является для него и необходимым, и достаточным.
Роман Осминкин, Иван Стрельцов, Лера Конончук, Мария Королева, Коинсидентальный Институт (Алек Петук, Йоэль Регев), Серое Фиолетовое, Дима Хворостов, Дмитрий Хаустов
Редактор Анастасия Хаустова
- Липовецкий М. Псевдоморфоза: Реакционный постмодернизм как проблема // Новое литературное обозрение, 2018, №151, доступно по https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/151/article/19759/ — прим. Р.О.
- Павлов A. Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — прим. Р.О.
- Ср. с вопрошанием Б. Латура «почему критика выдохлась?» — Латур Б. Почему выдохлась критика. От реалий фактических к реалиям дискуссионным // Художественный журнал, доступно по http://moscowartmagazine.com/issue/2/article/7 — прим. Р.О.
- Павлов A. Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время. — прим Р.О.
- Кузьмин Д. Постконцептуализм: Как бы наброски к монографии // Новое литературное обозрение, 2001, № 50. С. 459–476. — прим Р.О.
- Липовецкий М. Между Приговым и ЛЕФом: перформативная поэтика Романа Осминкина // Новое литературное обозрение, 2017, №145, доступно по https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/145_nlo_3_2017/article/12496/ — прим Р.О.
- Для тех, кто знаком с квир-комедиантками: на мой взгляд, стенд-ап Мэй Мартин куда ближе к «сит-бэк». — прим. Л.К.
- Neyrat F. Atopias. Manifesto for a Radical Existentialism, 2018 — прим М.К.
- Жестово-пластический язык — то, что описывает пластическо-двигательные свойства знаков, иными словами имеющие отношение и к телу, и к языку одновременно — то, как форма знака оказывает влияние на его содержание. — прим. К.И.
- Persecution and the art of writing, см. перевод в журнале «Социологическое обозрение», 2012, № 3, с. 12–25. — прим. Д.Х.
- Там же, с.14. — прим. Д.Х.
- Там же. — прим. Д.Х.