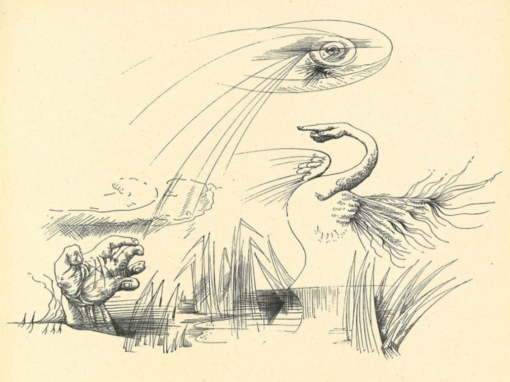Метафора — спорный инструмент. Она, с одной стороны, связует и цементирует проекты большинства континентальных философов: например, переводит язык математики в природные языки. С другой стороны, мы же догадываемся, что теория множеств не имеет никакого буквального отношения к призраку капитализма, а дифференциальные уравнения — к кочевничеству, но приписываем этим математическим инструментам некоторые культурные значения ради целостности знания или чтобы не портить себе литературное наслаждение. Что по этому поводу думают математики, хорошо известно, но какая разница. Грэм Харман в книге «Объектно-ориентированная онтология: новая “теория всего”», изданной Ad Marginem в 2021 году, ни слова не говорит о метафоре в философии и очень мало говорит о ней во вненаучном знании, однако пытается объяснить, что представляет собой этот прием в искусстве, и в связи с этим радикализует метафору, приравнивая ее к коллажу. Многие инсайдеры искусства прочли эту книгу уже, а кому-то она понадобится в ближайшем будущем, в качестве своеобразной методички для кураторских проектов или эссе «про актуальность». Но слишком большие инвестиции в метод коллажа в его современной трактовке могут обернуться большим разочарованием.
Исследование, которое Харман проводит в «Онтологии», невелико по масштабу и детальности: около 20 страниц, примерно как среднее академическое эссе, тогда как все остальное в книге посвящено историям, примерам, рассказам о движении, к которому Харман себя относит, и прочей популяризации знания. Название «Новая теория всего» ссылается на обычные для популяризаторов позитивной науки заглавия, несмотря на то что о публичных дискуссиях Хармана с представителями этого направления мысли известно мало, и у них совершенно разная аудитория. Но что-то подсказывает, что философ видит «популяризаторство» как некоторый всеохватный жанр, не привязанный к объекту, что заставляет его сражаться с представителями совершенно другой дисциплины. «Онтология» дает искаженную интерпретацию физикализма в философии как попытки объяснить законами физики даже фикциональные явления:
«Это подводит нас к третьему возражению против амбиций теории струн. А именно: успешная теория струн ничего не смогла бы поведать нам о Шерлоке Холмсе, и одного этого уже достаточно, чтобы дисквалифицировать ее в качестве “теории всего”. Ибо Холмс есть вымышленный персонаж и потому никогда не состоял ни из струн, ни из какого-либо еще физического материала»1.

Даже ядерная физика, которой Харман начинает вступление, посвященное певице Бьорк и харизматичному актеру Бенедикту Камбербетчу, ни сном ни духом не знает, зачем наряженная вульвой человеческая женщина срывает на сцене голосовые связки с очевидным вредом для здоровья и почему человеческий мужчина средних лет изображает других мужчин средних лет разных исторических эпох. В принципе, возможен и разочаровывающий ответ «потому что эти персонажи обладают телами, а остальное — факторы меньшей важности». То же относится и к герою Артура Конан Дойла, но Харман решительно отвергает такой академизм. На протяжении нескольких первых глав «Онтологии» философ вводит нас в суть современной постгуманистической теории, что это не человек как субъект открывает нечто в окружающем мире посредством практики, как сказал бы нависающий тенью над всеми современными континентальными философами Мартин Хайдеггер, а вещи, или нынешним языком, объекты раскрывают о себе нечто, но не все. Остается некоторая недосказанность «вещей в себе», и некоторые человеческие объекты, то есть люди, вдруг решают что-то понять про остальные объекты с помощью науки. Но не тут-то было. Есть ведь и лучший инструмент познания, говорит Харман, предлагая нам само искусство, но не в каком-то самом общем смысле, как это делал Хайдеггер, а совершенно прагматическим образом возводя в метод присущую всему искусству метафору. Здесь и начинается оригинальная часть исследования Хармана, то, что отличает его от других представителей нового течения мысли, где объекты заняли место субъекта. Метафора каталонского поэта Лопеса Пико «кипарис подобен призраку мертвого пламени»2, которую философ заимствует у покойного коллеги Хосе Ортеги-и-Гассета, якобы дает нам некоторое «знание» о кипарисе как вещи в себе, потому что между объектом и его качеством возникает напряжение, дающее нам вход в измерение непознанного. Люди, знакомые с Кантом и его более ортодоксальными последователями, чем наш герой, уже берутся за головы, но нет, Харман не совершает преступления против всего разумного, обещая нам познание вещей в себе, тут имеет место более тонкий ход. Далее Харман пророчит радикальные изменения в области всех наук, но они уже не совсем связаны с метафорой. Он обращается к коллегам-предшественникам из акторно-сетевой теории, вознося им хвалу за открытие важности неживого в исторических исследованиях. Если раньше историки спорили о влиянии персоналий на исход сражений, политические реформы, культурные изменения, то пионер акторно-сетевой теории Бруно Латур запустил лавину работ об эффекте незаметных на первый взгляд вещей, что меняет весь ландшафт гуманитарной теории. Ученые круга Латура предположили, что мы знаем о факторах исторических перемен по их эффекту, поэтому начинаем исследования не с гипотетических, а с реальных событий и постепенно, сетевыми блужданиями, находим каждого маленького виновника:
«Концентрация на действительно сделанных высказываниях и на действительно случившихся вещах, во избежание всяких спекуляций относительно истинных намерений или более глубоких движущих сил любого исторического события, может в некоторых случаях оказаться оригинальным методом. Результатом такого решения могут стать мощные интуиции, вроде предложенных акторно-сетевой теорией (также рассматривающей только действия) впечатляющих интерпретаций всего на свете: от карьеры Луи Пастера до отказов в работе новой запланированной автоматизированной системы парижского метро»3.

Впрочем, там же Харман выражает несогласие с коллегами, говоря, что история — не пьеса. Если в реальной истории на стене висит ружье, то оно может и заржаветь без единого выстрела. Открытие мелких объектов не означает их непременной важности, — журит адептов акторно-сетевой теории Харман с позиции здравого смысла. О метафоре как основном методе гуманитарного исследования он говорит скупо, хотя такое исследование принесло бы ему славу главного скандалиста от философии, зато ссылается на некоторую «теорию метафоры», означающую, что непознаваемая реальность в виде «вещей в себе» существует, и на совершенно эзотерическую «силу» этой вещи в себе:
«Тем не менее акторно-сетевая теория (АСТ) упускает все то, что мы только что узнали из теории метафоры. Если метафора требует силы вещи-в-себе, то АСТ полностью отказывается от данного понятия, сводя акторов к их взаимным друг для друга последствиям, так как за действиями вещи здесь и сейчас не скрывается никакой “субстанции” и никакого иного излишка»4.
Мы так и не узнаем, что можно и что нельзя в этом мире исследовать методом метафоры, зато видим, что «теория метафоры», которая всего-то и означает, что есть нечто непознаваемое, распространяется на все. И здесь начинается серия несостыковок как фактического, так и теоретического плана. Какую-то критику Харман приводит в «Онтологии» и сам, правда, перефразируя ее так, что звучит она совершенно безобидно. Например, слова Славоя Жижека, который пенял ему на постыдный уровень аполитичности5, Питера Грэттона, который посмеялся над Харманом, намекнув, что тот просто пересказывает Деррида6. Правда, при ближайшем рассмотрении обе эти линии критики оказываются куда глубже заявлений Хармана, впрочем, обо всем по порядку. Есть множество досадных фактологических упущений, которые ставят под сомнение сочетание объектно-ориентированной онтологии с метафорой и без Жижека с Грэттоном. Например, обычным носителям русского языка метафора про кипарис и пламя не скажет почти ничего, потому что это дерево в постсоветских странах не сажают на кладбищах, и покойников нечасто кремируют. Ортега-и-Гассет вынул метафору Пико из контекста ради формального анализа, считая контекстуальность профанацией «священного» в поэзии7. А само стихотворение «D’un xiprer» было опубликовано в 1914 году в сборнике «Epigrammata» с посвящением знаменитому филологу Рамону Микелю-и-Планасу, выступавшему против реформы каталанского языка для соответствия современным европейским тенденциям. Микель-и-Планас и Пико, как настоящие любители словесности, не могли не обмениваться хлесткими репликами то и дело. Иными словами, мертвое пламя — это реакционер, но так как в этом смысле и Ортега-и-Гассет — тоже так себе реформатор, то получается, что Пико вошел в международную историю мысли в трактовке своего оппонента. Правда, не все так просто: автор рационалистической языковой реформы Пумпеу Фабра позже предлагал защищать каталонскую расу методами евгеники, но в контексте ссоры между Пико и Микелем-и-Планасом это не играет большой роли. Метафора, выдернутая из стихотворения, а потом и из языка этого произведения — как у нашего героя Хармана, — превращается из знака окоченения мысли в пространное романтизированное описание. Таким образом, донесение «знания» во многом зависит от культурного контекста, важность которого Харман отрицает.

Есть и более серьезная ошибка: цитата из Гомера «винноцветное море». Харман полагает, что это метафора и строит половину рассуждений в главе об искусстве на этой иллюстрации и размышлениях про вино:
«Напомним, что метафора работала следующим образом (общий эстетический опыт можно объяснить аналогичным образом). Море и вино в словах Гомера сближаются. Они стоят в определенном порядке: винноцветное море, а не морецветное вино. Это означает, что море как объект принимает на себя цветовые качества, присущие вину, и, как следствие, некоторые другие его качества, такие как расслабленность и забвение»8.
На самом деле многие художники знают, что у греков было просто меньше названий цветов, чем в современном английском и русском языках, и словом oinops назывались все темные цвета спектра9. Гомер употреблял цвет в прямом, а не метафорическом значении, и никаких других эффектов вина (кроме темноты) в виду не имел. Грубость исследования Хармана по метафорам проявляется и в том, что примеры «вещей в себе», что мы должны познать, даны из категории хайдеггеровского сподручного, например, дом, молоток. Но ведь чтобы книга была самостоятельным онтологическим исследованием, а не хайдеггероведением, не мешало бы распространить метод на другие «вещи в себе», о которых мы не знаем ничего — например, планету Тюхе, или внеземную расу, — или о которых мы знаем относительно мало. Сознание или звон в ушах (можно, правда, предположить, что у Хармана это не объекты, а качества). Поможет ли нам метафора узнать хоть что-нибудь новое об этих чудесных вещах? Есть здесь, правда, и большая заслуга этого философа в том, что он развивает все проблематичные аспекты философии Канта и не выправляет их каким-либо образом, как его коллеги, а, скорее, доводит их до смешного. Например, мы якобы меньше всего знаем о тех вещах, которые к нам ближе всего: в виде формулы это звучит как «трансцендентальное трансцендентного — это имманентное». Нет, философия Канта — не божественная субстанция, а просто инструмент, схлопывающийся сам в себя10. Понять это можно, либо много лет изучая более академичных современных кантианцев, вроде Франсуа Ларуэля, либо потратив всего пару вечеров на «Онтологию» Хармана.

Как бы много ошибок Харман ни сделал, а есть в его исследовании здравое зерно. Он колеблется от «знания» вещи в себе через метафору в начале главы (что было бы абсурдом) к «истинному мнению» о ней в ее конце, но что такое «истинное мнение» он не говорит прямо, а ссылается на провожатого из Сократа, который учит путников «правильной дороге» на Ларису. Если бы Харман закончил тем, что мы можем достигнуть именно «знания» вещей в себе, то он аннулировал бы саму эту категорию, а так нам остается гадать, с чем же мы в итоге имеем дело. Можно предположить, что истинное мнение прагматически приведет нас к нашей цели: то есть чтобы объект употребить, его нужно метафоризировать, и может быть это прочтение даже имеет что-то общее с лакановским психоанализом, но только вряд ли психоанализ — это теория всего, как хвалился в названии своей книги Харман. Но если бы все было так просто: мы не узнаем из «Онтологии» и того, каким именно качеством человеческий объект познает реальность — сенсором ли, как электрочайник, грибным ли разумом, как у небезызвестных Бена Вударда, Сергея Курехина и Андрея Колесникова, крестьянской ли страдой, русской ли душой. Как это называется, из чего состоит? Так что у метафоры не то что нет гарантии быть понятой, она существует в обход сознания как инструмент, как хайдеггеровский молоток, и ни в какой момент не происходит ее психоаналитического «доведения до анализанта». Там, судя по состоянию этой теории на сегодня, и не до чего доводить. Иными словами, Грэттон был прав, что «Онтология» Хармана — это не более чем фантазийная интерпретация мира как текста Деррида, в отличие от оригинала, с отсутствующими выводами и без дерридианской политической программы изменения языка. С отсутствием современного проекта эпистемологии, то есть соответствующего хоть каким-то относительно недавним научным открытиям о познавательном процессе, читатель столкнется и в книгах большинства других неокантианцев, от Эрнста Кассирера до Габриэля Катрена. При этом сама конфигурация мысли у Канта не дает никакого шанса избежать ответа на вопрос, как мы понимаем мир, потому что «Критика чистого разума» — это книга о том, что некоторые наивные граждане называют «сознание». Катрен предпринял попытку поставить на место современной эпистемологии фрейдовский психоанализ, потому что это единственная традиция мысли о «сознании», с которой континентальная философия относительно неплохо знакома. Очень упрощая, континентальные неокантианцы не используют науку не по каким-то благородным причинам, как бы хотелось верить Хайдеггеру, судя по тому, что замещают они ее чем попало с печальными последствиями. Деррида смог выпутаться из ловушки «сознания» через язык и расплатился тем, что вся его философия стала о «тексте», а познание схлопнулось до метафоры. Харман как философ «об объектах» уже не имеет этого инструмента в своем арсенале, и отмахнуться от надоедливых критиков метафорой не выйдет. Впрочем, то, о чем он на самом деле говорит, сложно назвать метафорой — это другой прием, и здесь обычный не очень удачный, но и не криминально плохой философский проект превращается в тот объект частых и справедливых насмешек, что мы имеем.
Харман посвящает пару страниц критике отцов модернистской теории искусства Клемента Гринберга и Майкла Фрида в том, что они отрицали литературщину метафорического содержания художественных произведений, а ведь даже минимализм, эти безжизненные кубы белой материи, причудливо раскиданные по белым кубам музеев, обладали театральностью, переменами во времени-пространстве относительно тела зрителя, что задает искомый метафорический импульс. Здесь нужно немного отступить от рассказа ради прояснения довольно запутанной терминологии: в художественной критике, связанной с постмодерном, приняты три разных маркера этого постмодерна по отношению к модерну, традиционно считаемому прошедшей эпохой. Это аллегория (метафора как один из ее вариантов), театральность и коллаж, якобы все три находились под запретом до наступления постмодерна. Совершенно при этом непонятно, как эти явления связаны между собой и подразумевает ли одно другое, но, по Харману, некое взаимоперетекание этих категорий предъявляется нам как что-то самоочевидное. Только, по меткому заявлению Пита Вульфиндейла, когда Харман прославился, искусство не стало ни метафоричнее, ни театральнее, а вот неодадаистическая коллажность вошла в буйный расцвет, очевидный даже зрителю-неспециалисту 11. И есть вполне понятные причины этому, которые легко обнаружить в «Онтологии».

Эффекты метафоричности и театральности требуют некоторой режиссуры, задумки в обеих частях склейки, а вот коллаж — во многом просто игра и наполовину работа зрителя. Этот прием действительно существовал весь двадцатый век в работах сюрреалистов, вопреки презрительному безразличию Гринберга и Фрида, и просачивался в высокое искусство через комбинаторику скульптурной основы (в том числе холста), цвета и все тех же пространственных мутаций по мере того, как зритель идет по залу. Сегодня метод коллажа добился роли основного и даже единственного приема, которым искусство пользуется. Все, что мы воспринимаем в качестве смысла работ, произведено, во-первых, сочетанием самих произведений с музейным развлекательным комплексом в широком смысле, в частности, с кураторскими пояснениями, во-вторых, комбинаторикой произведений в одном времени и пространстве, в‑третьих, постмодернистским коллажем внутри самих произведений. Мы уже не поймем, что перед нами и как это квалифицировать, если сканер не считает квадратик кода на билете, из вестибюля уйдут все женщины с алой помадой, а в анонсе мероприятия не будет выспреннего текста на тему прекрасного будущего. Что самое главное, все эти вещи никак не связаны между собой, но и порознь они не образуют другие коллажи. Существует прекрасное доказательство того, что коллаж — это продукт произвола человеческой фантазии. Как минимум некоторые детали не закладывают никакого смысла, который коллажем предстоит открыть: вспомните эффект Кулешова, где советский дядя с тревожным покер-фейсом стоит напротив то супа и ста граммов, то гроба, то женщины на оттоманке, которая, трагически поджав губу, смотрит куда-то в потолок. Этот известный эксперимент, где зритель должен был поверить в голод, траур и желание героя соответственно, а на самом деле видит на всех трех видеоколлажах неизбывную кафкианскую тоску, показывает, что то, что Харман теоретизирует по классике философии как «вроде сподручное, но без метафоры не утилизированное», на самом деле на половине изображений сподручно (там, где суп), а на другой пусто. Чистая и пустая форма смерти.
Да, если честно, и многое в так называемой «теории» — не более чем приятное убийство времени, все тот же развлекательный комплекс. В сегодняшней художественной критике происходит коллажная склейка основных постулатов cultural studies [марксистской культурологии. — М. К.], вынутых из контекста метафор самых разных онтологий, последних конвульсий классического искусствоведения и просто завиральни в стиле «Каравана Историй». Всему этому проекту требуется некоторая серьезность, но вот беда: искусствовед Джеймс Элкинс жаловался на одном круглом столе, что как только доминирующим предметом исследования становится современное искусство (понятое как институциональная система) — пиши пропало. Например, потенциально революционная область «визуальные исследования», охватывающая всю видимую культуру — от рентгеновских снимков на туберкулезный клубень до кувшинок Моне, — практически заглохла в последние годы. Сначала в эту область хлынули художники и разочаровавшиеся в своей дисциплине художественные критики, потом произведения сегодняшнего искусства, продукт живых западноевропейских авторов и кураторов, стали занимать не менее 50 процентов от исследований, затем эти осторожные бенефициары стали диктовать свои условия трудоустройства и нетворкинга [это вольность в пересказе, но автор текста — журналистка, работающая в зине, и может иногда правду-мать рубануть, в отличие от заслуженного профессора. — М. К.]. Закончилось все тем, что на все кафедры визуальных исследований в США пришли согласные с этой политикой карьерно-ориентированные доценты, которые боятся сделать чих в сторону от традиционных уже для дисциплины коллажей из надзора Фуко и посредственных компиляций чьих-то чужих репортажей про камеры, дроны и тому подобное12. Тысячи одинаковых текстов со стандартными подводками и заключениями, никакого развития, никакого искреннего интереса. Молодежь бежит в смежные области. Художественной критике в традиционном понимании уйти от институционального надзора еще сложнее, а то и вовсе нельзя, сами методы и смыслообразование продиктованы тут индустриальной прагматикой. И коллажность исследований, как и художественных работ, позволяющая не настаивать ни на каких смыслах, более чем на руку системе искусства, это неотъемлемая часть искусства как международного бизнеса. Как минимум, именно коллажность позволяет работам кочевать с выставки на выставку, с каталога в теоретический текст и везде надевать новую личину, везде повышать свои котировки. Возникает даже постыдный вопрос: а не написал ли Харман вот именно эту книгу, чтобы ездить по миру и учить кураторов основам популяризации? Ведь он не проводит различия, что именно популяризировать: физику, метафизику, социологию или литературоведение, — получающийся продукт будет склейкой из разных деталей и не будет претендовать на истину ни в одной из этих областей.

В «Онтологии» Харман вкратце рассказывает все, что нужно знать о его методе человеку, далекому не только от техницизмов, но даже и от самой легковесной философской публицистики. Массы увлекательных (и не очень) исторических анекдотов, изнурительно-длинные погружения в азбучную философию, реклама себя и своих коллег, растянутая на целую главу, огромное вступление про то, что теория струн не годится для анализа кинематографа. А содержание исследования практически исчерпывается вводным и заключительным абзацами: 1. Объекты изымают себя не только из человеческого, но и из обоюдного доступа (поэтому акторно-сетевые теоретики не правы с выводами); 2. Эстетический опыт принципиален для «Онтологии»; 3. Объекты действуют потому, что существуют, а не существуют потому, что действуют13. Здесь уже приходится не согласиться с Жижеком, что такое бесхитростное и ниоткуда никуда не ведущее теоретизирование мог бы оправдать политический манифест, вроде «не выбрасывай пакет» или «погладь кота». Харман стал бы классиком околохудожественной теории, нежно лелеемым веками, как безымянный прототип тысяч и тысяч нынешних текстов про Фуко и дронов, но это не добавило бы «Онтологии» веса, потому что прорывные исследования сами по себе политичны, они не нуждаются в орнаменте из лозунгов. Но к чести Хармана нужно сказать, что даже зная относительно легкий карьерный путь политического комментатора при музее, повторяющего какую-нибудь мантру вроде «не выбрасывай пакет», «не выбрасывай билет», он отказался от него в пользу торной дороги человека, посвятившего себя собственному проекту мысли со всеми недостатками, какие бы в нем ни содержались.
Вообще, транслировать философские идеи на искусство — занятие гиблое, потому что философы имеют в виду под искусством отдельные работы знаковых для них художников, а не все то социально-культурное явление, что мы так любовно описываем. Но с Харманом история особенная из-за его интереса к вездесущему явлению курирования, причем этот интерес не затрагивает новаторские тактики, этически-мотивированное и внехудожественное курирование. Его проект настолько далек от этих вещей, что возникает опасность и в этом тексте скатиться в неумную стереотипизацию, но просто примем во внимание, что самого интересного о курировании Харман не отражает в своих работах. А судя по тому, что мы знаем к концу книги, метафора, обещавшая быть теорией всего, оказывается даже не познавательным, а конструирующим приемом, метафорой-коллажем, и в интерпретации «Онтологии» приводит нас только к осознанию, что человек в этой модели вселенной — действительно не адресат искусства, потому что ему нечем это искусство понять. Возможно, современное искусство по Харману существует потому, что раздражает таинственные дофаминовые рецепторы горнорудной промышленности, ведь они настолько «вещи в себе», что нам не постичь их никакой метафорой, но это всего лишь предположение. У читателя этой книги будет непростой выбор: ждать более полных и исчерпывающих работ по метафорике, таких, которые хотя бы объяснят, чем метафора сегодня отличается от театральности, коллажа и прочего, и на этом основании пойти делать полноценную анти-философию какими-то совершенно гениальными художественными методами; или понять, где именно слабые места в проектах более техничных кантианцев, чем Харман, и использовать это знание себе на пользу. Конечно, всегда остается опция сделать неодадаистический музейный проект и подписать его цитатой из «Онтологии», но это далеко не самый интересный выбор.
Автор Мария Королева
Редактор Дмитрий Хаустов
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего». — М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. С. 35.
- Там же. С. 72.
- Там же. С. 206–207. Харман ссылается на работы: Latour B. The Pasteurization of France. Рус. пер.: Латур Б. Пастер: война и мир микробов; Bruno Latour. Aramis.
- Там же. С. 104.
- Там же. С. 11.
- Там же С. 188.
- Ортега-и-Гассет Х. Эссе на эстетические темы в форме предисловия // Эстетика. Философия культуры. — М.: Искусство, 1991. С. 104 и далее. Оригинал — Josep Maria Lopez-Pico «D’un xiprer»: Ta vida és un desig d’agilitat; / voldria ser gentil i és massa forta. / Ta vida és un desig llarg i callat; / és com l’espectre d’una flama morta. Manent A. Del noucentisme a l’exili. Sobre la cultura Catalana del nou-cents. — Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. Pp. 93–95. Обложка букинистического издания сборника «Epigrammata», в котором было опубликовано стихотворение. Историю перепалки можно почитать у M. Salome Ribes Amoros. L’obra lingüística d’Alfons Par — Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2011. P 168.
- Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего». С.174.
- Варламова Д. Винноцветное море и медные небеса: как менялось восприятие цвета в языках мира // Theory&Practice, 16 марта 2015.
- Я бы никогда до такой вершины мысли не дошла без лекции по Франсуа Ларуэлю Даниэля Сасилотто, на которую мне очень повезло попасть.
- Интервью с Грэмом Харманом «За эстетикой будущее философии» // Colta, 24 августа 2016.
- Elkins J. First Introduction, starting points // Farewell to Visual Studies. — Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2015. P. 5.
- Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего». С. 248–251.