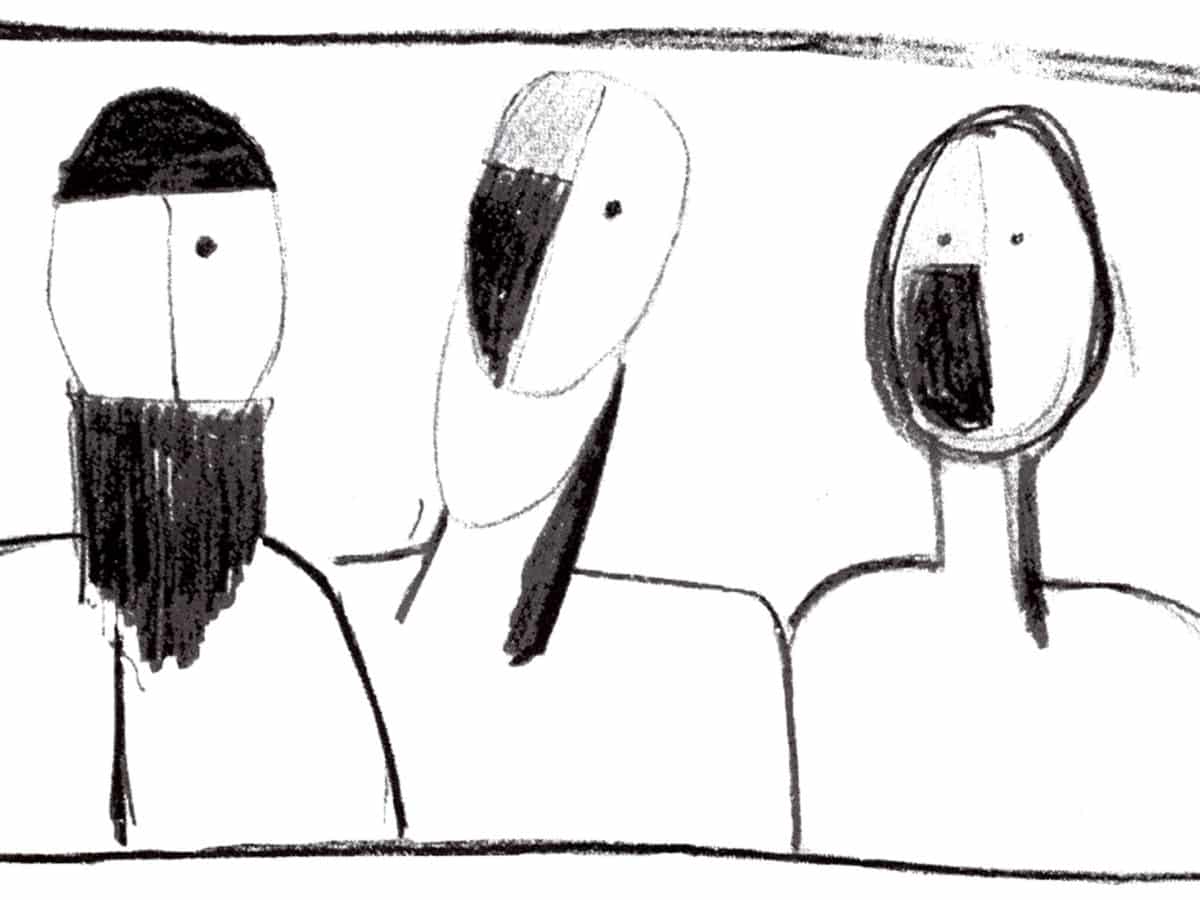Агамбен Д. Человек без содержания. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. Перевод с итальянского С. Ермакова.
Латинская формула ex nihilo nihil — ничто не происходит из ничего — имеет древнюю (в этом смысле еще до-латинскую) философскую родословную и указывает на одну из важнейших аксиом античного мышления: невозможно помыслить нечто, что возникло само по себе, без причины. Понятие причинности, кажется, всеохватно — от ранних милетцев, открывших свою (да и любую) философию с мышления единой причины вещей, и до четырех причин Аристотеля это понятие, развиваясь, призвано продемонстрировать: всякий мыслительный объект привязан к тому или иному виду причинности, будь то материя или форма, действие или цель. Античный мир полон, закончен и связан изнутри — да так, что не расцепишь, и эта ригидность как раз гарантируется всеобщими причинными связями.
Поэтому можно представить, какой революцией в мысли — действительно, quia absurdum! — явилась христианская доктрина о творении мира из ничего. Как часто случалось, одним ходом мысли разрушен был целый мир, и путь в новый мир завис над тревожащей — каузальной — пустотой.
Мышление Нового времени, которое и выступает предметом анализа Джорджо Агамбена, казалось бы, реабилитировало ригидную причинность — а именно, закон достаточного основания, в известном виде сформулированный Лейбницем, однако не им одним выдуманный, вновь утверждал необходимость поиска причины (в данном случае — основания) для всякого мыслимого сущего. Значит ли это, что перед нами новый разрыв, столь же «абсурдный», как предыдущий? Не значит — скорее, здесь мы сталкиваемся с ярким примером гегелевского снятия, где тезис и антитезис сплетаются в синтезе: рационализм Нового времени совмещает античную философию жесткой причинности и христианскую философию немыслимой первопричины, которая, как мы понимаем, имеет много общего (много — однако, не все) с понятием перводвигателя у того же Аристотеля.
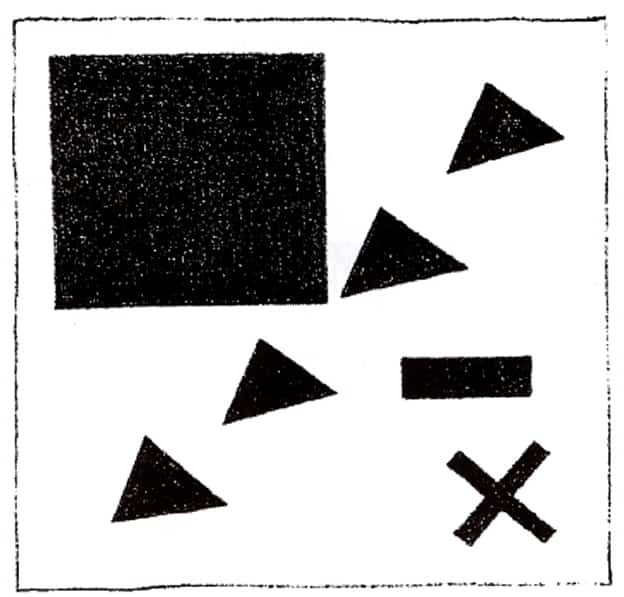
Мир связан порядком причин-оснований, но мыслима ли причина этого мира, самой этой связности? Какова причина предустановленной гармонии, о которой говорит Лейбниц в связи с тем же Богом? У Бога — что лейбницевского, что христианского — нет основания, он безосновен, и только такая парадоксальная позиция дает ему силу служить основанием для всего сущего. Ничто не происходит из ничего, но первопричина здесь — исключение.
Мир Нового времени, таким образом, зависает над бездной как минимум дважды: во-первых, и это не новость, он зависает над бездной первопричины, творящей этот мир из ничего, и, во-вторых, он зависает над бездной целей и следствий — а вот это уже и правда новость. Телеология, мысль о цели, играла важную роль и в Античности, и в христианстве: цель объявлялась одной из причин Аристотеля, также и у христианского Бога была цель, ради которой он создал творение из ничего. Однако мышление Нового времени — сразу же, с Фрэнсиса Бэкона — отказывается от телеологии, оно объявляет конечные причины немыслимыми, ибо — непроверяемыми, не могущими быть объективированными и, следовательно, связанными с миром опыта. Получается, что, наряду с началом, у мира отсекается и целевое окончание: все цели отвоевываются у теологии, ничто воцаряется как позади, так и впереди, и все, что остается новоявленному человеку модерна, это турбулентная, нестабильная середина, разъятая меж двух — не огней, но пустот, и так чуть понятнее становится тот horror vacui, что сводил с ума — христианина и ученого, то есть дважды пустынника — Блеза Паскаля. Однако Паскаль — это редкость: в массе своей человек Модерна не только не боится, он наслаждается своей опьяняющей безосновностью. Даже зависший над бездной, он отчего-то чувствует себя хозяином положения.
В любом случае весь этот маленький историко-философский экскурс показывает, что наша мысль имеет давние отношения с Ничто, с пустотой — эти понятия, как видно, сопричастны мышлению если не с самого его зарождения, то уж точно с его ранней юности. Ничто, пустота — вот центральные категории, которые интересуют Агамбена в его опыте прочтения культуры Модерна.
Осью культуры Модерна в этом прочтении выступает искусство — отнюдь не случайно, если припомнить историко-философский контекст: собственно, осевая третья Критика Канта, синтезирующая функция искусства у Шеллинга и романтиков, еще ранее — Бог как творец Средних веков в переходе к Человеку как художнику Ренессанса… Спорить нечего: искусство — это, говоря с придыханием, судьба Запада, или — чуть более холодно — одно из центральных понятий(-метафор) западной онтологии. Вот он, этот Запад: античный искусник-технитес, христианский со-трудник Божественного Творения, титан и творец Ренессанса, ученый умелец и созидатель Модерна — тот самый, которому Бэкон вручил в руки технические инструменты знания-власти (scientia=potentia), они же — ключи к счастью, залог человеческого величия и торжества над жестокой природой. Ученый ведь тоже художник, на свой лад и в более крупных масштабах.
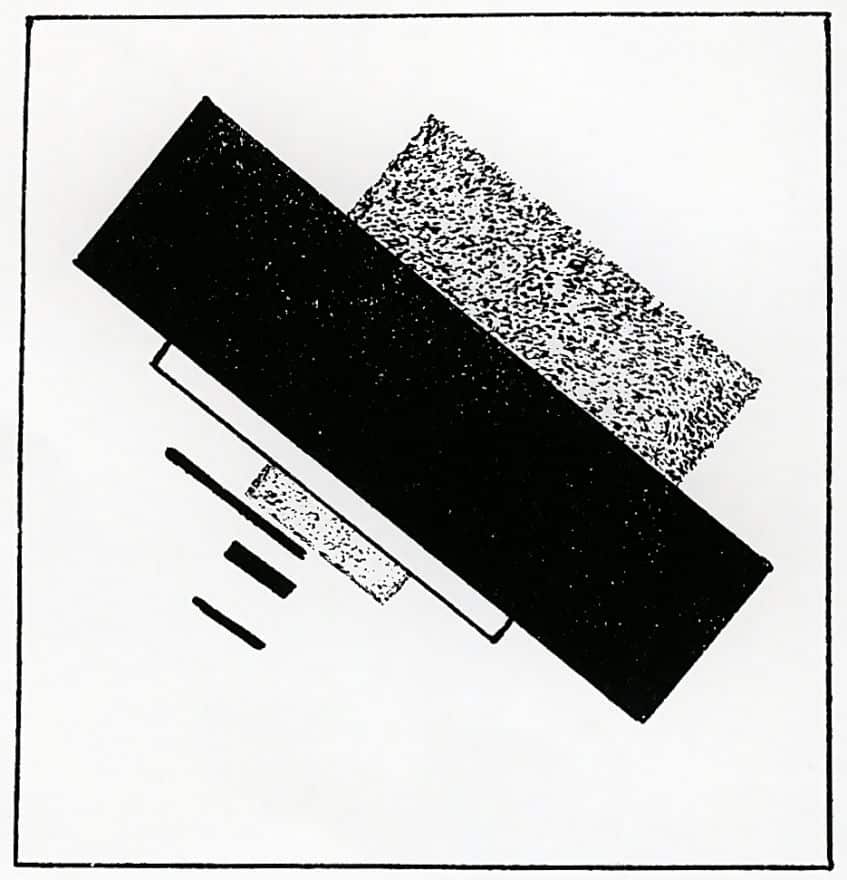
Однако совсем беспроблемным все это западно-модернистское художество не назовешь, и Агамбен фиксирует фундаментальную его амбивалентность. Где-то в XVII веке из недр художества, точно холодное глубоководное чудище, появляется человек вкуса, этот прелюбопытный просвещенный господин (во всех смыслах). Раньше мир знал только художника — будь то Бог или Человек. Теперь ему предстоит узнать Зрителя, Слушателя, Читателя — словом, того, кто отделяется от произведения и от процесса его созидания, кто, свободный и автономный, выносит эстетическое суждение, суждение вкуса. Вкус и творчество: ничего общего, только смертельное противостояние. Агамбен пишет: «Чтобы сохранить свою целостность, вкус должен отделиться от созидательного начала…»1 — отделиться, добавим, но так, чтобы в модусе негативности оставаться к нему привязанным. Суждения вкуса нет без объекта-произведения, зависимость сохраняется, хотя, вроде бы и завоевана автономия. Значит, это ненастоящая или частичная автономия? Может быть — только пока что. Ведь это еще и технический, прагматический вопрос: как новорожденному человеку вкуса сделать свою частичную автономию — абсолютной?
У Агамбена нет сомнения в том, что такая абсолютная автономия суждения вкуса была в итоге завоевана. Сначала абсолютно автономным считался один лишь художник: «Искусство в наше время — это абсолютная свобода, ищущая в самой себе собственную цель и основание; оно в принципе не нуждается в каком-либо содержании, поскольку соотносится с собой лишь в головокружении от собственной бездонности. Теперь никакое другое содержание, кроме самого искусства, не является чем-то непосредственно сущностным для сознания художника и не внушает ему никакой необходимости быть репрезентированным»2. Художественная автономия: артист порывает с каким-либо содержанием, не содержание властно над произведением, но произведение — и через него сам художник — властно над всяким возможным содержанием, как человек над природой в научной утопии Бэкона.
По многозначительной аналогии, демонстрирующей рост автономий по степени, человек вкуса подобным же образом освобождается от власти художника и произведения: как последнему нет больше дела до содержания мира (негация первой ступени), так и первому нет больше дела до содержания произведения или произведения как содержания (негация второй ступени). Понятно, что механизм модернистской автономизации искусства приводит и к автономизации вкуса, первое — мотив для второго. А как насчет третьего или четвертого?.. Будучи однажды запущенным, механизм снятия (буквального, а не гегельянского!) объективированного содержания может ступенями двигаться до бесконечности. Именно этот механизм хорошо темперированной негации Агамбен и называет нигилизмом.
Раскиданная по ступеням-степеням игра негативности, этот театр жестокого снятия всего и вся, конституирует нигилизм в безусловном требовании надстраивания надо всяким «что» чего-то другого, что это первое «что» у‑ни-что-жит. Эстетика — это не более, но и не менее чем машина подобного уничтожения искусства: речь в эстетике, по Агамбену, идет не об искусстве как таковом, но — буквально — о не-искусстве, о сведении любого искусства к его «не-», об уничтожении искусства как данности. Поэтому Агамбен — опять-таки на хайдеггеровский лад — предлагает писать слово «искусство» в смысле объекта эстетики перечеркнутым: искусство. Если мы вспомним, что Хайдеггер так же писал бытие, то мы без труда поймем аналогию: машина эстетики для искусства — что машина метафизики для бытия, что машина искусства для референции, сущего, содержания. Что получаем в остатке? Черту перечеркивания — как единый/единственный жест, повторяющийся у человека Модерна в любой его — головной, трудовой, аффективной — деятельности.
Впрочем, речь тут не только и даже не столько о человеке Модерна, этот Модерн для Агамбена-Хайдеггера начинается уже где-то с Платона, а может, и раньше, и где-то тогда, у отступивших от сути греков, уже взорвалась, по Хайдеггеру, атомная бомба. Какими бы подозрительно громкими ни были все эти инвективы, верно одно: история нигилизма не начинается с XVII века3, корни ее куда длиннее, запутаннее, всеохватнее. И эта извилистая всеохватность отсылает нас на время утерянной нити причинности: не потому ли искусство находится в центре так понятой судьбы Запада, что оно собирает в себе все возможные представления о причинности, которые испокон структурировали отношения человека с миром вокруг него — и в нем самом?
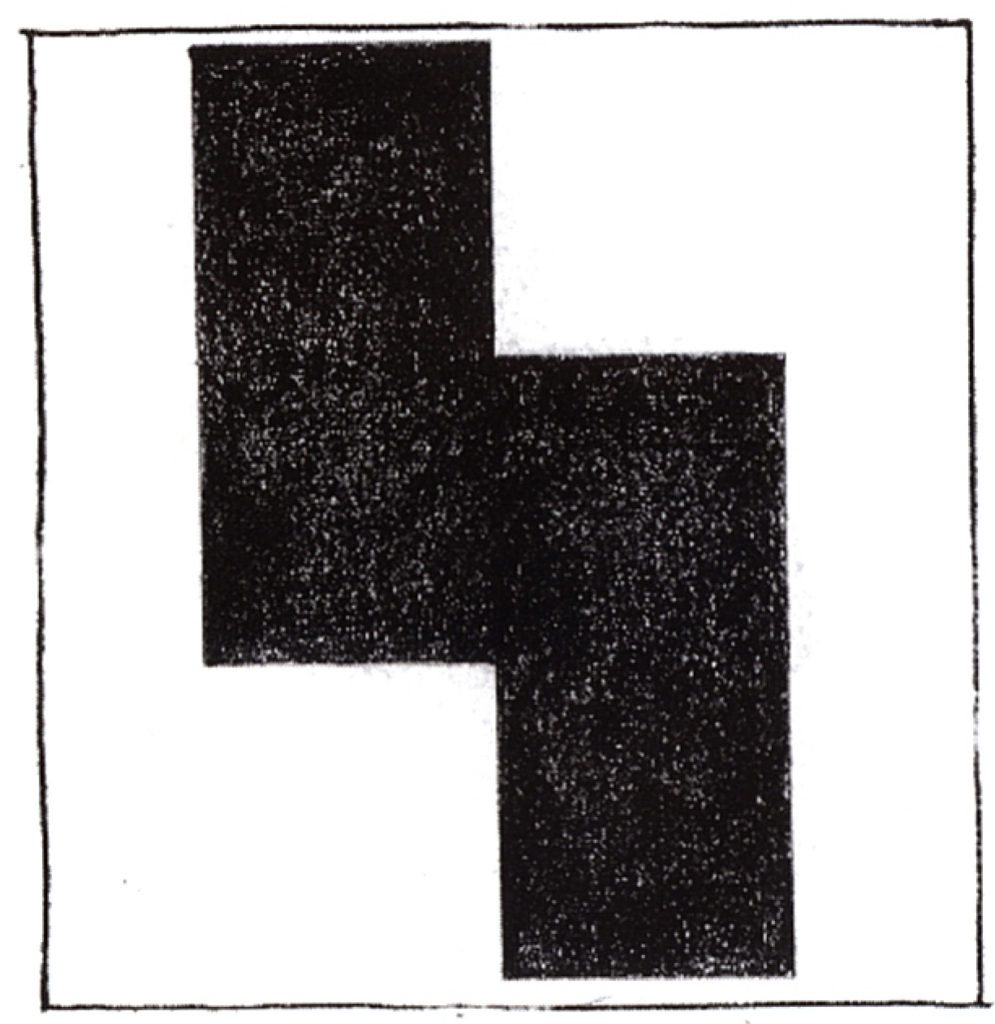
«…искусство есть Уничтожающее, которое пересекает все свои содержания, никогда не будучи способным на утверждающее произведение, поскольку не может больше идентифицироваться ни с одним из них. И поскольку искусство стало чистой мощью отрицания, в его сущности царит нигилизм», «И до тех пор, пока нигилизм будет скрыто править ходом истории Запада, искусство не сможет выйти из своих непрекращающихся сумерек»4 … Агамбен уверен в немалой значимости этой связки — искусство/нигилизм/судьба, — и в качестве комментария к ней он, опять вслед за Хайдеггером, выходит на уровень причин. «…на земле у человека — поэтический, то есть про-из-водительный, статус» — не сразу поймешь, Агамбену или Хайдеггеру принадлежат эти слова, однако суть этих слов в определенном порядке причин, в который вписывается человеческое действие. Это действие древние греки понимали как выведение к бытию, выведение в свет и в истину того, что, собственно, есть. Очевидно, человеческое художество здесь весьма ограниченно: человек буквально связан бытием, он только выводит его на свет, но ни о какой автономии в данном случае говорить не приходится. Однако позже в таком понимании человеческой деятельности происходит раскол: выведение к бытию отделяется от автономного целеполагающего, волевого действия — творение отныне понимается в двух очень разных, а в пределе и взаимоисключающих смыслах: как праттейн и пойейн, волевая активность и выведение к бытию. Разница в том, что эмансипированная волевая активность есть шаг к нигилизму, к установлению фатального разрыва между действием и бытием. Для Аристотеля цель и предел поэтического как такового находится вне его, тогда как практическое обнаруживает свою цель в себе самом, отделяясь таким образом от всякого содержания. Мы понимаем, что именно в этом отделении, в этой автономизации деятельности от ее внешнего (в пределе — от бытия) и заключается корень той самой судьбы, имя которой мы обрели в разговоре о модернистских эстетике и искусстве: нигилизм.
Нигилизм: ex nihilo nihil — об этом-то и забывает поздний, слишком поздний человек, представляя себя эмиссаром инстанции, которая, будучи именно что ничем, будто способна производить из себя что-то: сущее из бытия, культуру из природы, искусство из референций, суждения вкуса — из искусства. Однако — ex nihilo nihil. Раз погрешив против этой ограничительной формулы — начало этому греху положили платонизм и христианство с их в сильном смысле нигилистическими Единым и Богом, — человек обречен повторяться и впредь, то мастеря из собственного образа нигилиста-Бога, то убивая последнего лишь ради того, чтоб смастерить из того же образа нигилиста-Человека, нигилиста-Ученого, нигилиста-Художника, нигилиста-Критика. Ошибка (нигилистического) суждения — в подмене порядка причинности: там, где наше действие — только одна из причин, тогда как другие теряются в неизвестности, мы пытаемся — трагически незаконно — присвоить себе и все другие причины, будто бы действия и цели, материя с формой — все в наших руках. На деле же в наших руках ничего: подменив проблемный порядок причинности беспроблемными грезами о человеческом всемогуществе, мы отказались от бремени мысли и утратили в итоге даже то, что по праву было нашим: искусство выведения бытия на свет истины, то есть, в исконном смысле, поэзию. Свет истины древних померк в нигилизме, отныне ни выведения, ни бытия — одни лишь костры уязвленных амбиций.
«Человек без содержания» — это талантливая комментированная диагностика в пока еще хайдеггеровских терминах, но уже с ощутимо оригинальной агамбеновской проблематикой — диагностика, в виртуозности которой и далее будет заключаться вся сила агамбеновского стиля, а в скупости ее на синтетические выводы — вся его слабость. Его учитель Хайдеггер был более чем пренебрежителен к деталям, охоч до больших и, как правило, слишком поспешных обобщений, тогда как Агамбен, напротив, уходит в деталь, в инспирированный Мишелем Фуко — вторая линия его философской преемственности — микроанализ. В какой-то момент эти линии, сталкиваясь, начинают мешать друг другу: «судьба Запада» и «европейский нигилизм», и правда, в силу своей известной выспренности смотрятся чуть нелепо на фоне пристального контекстуального, историко-культурного анализа. Позже Агамбен поймет это и откажется от многих заимствований у Хайдеггера, тогда как влияние на него Фуко с его микрофизикой будет лишь возрастать, что особенно заметно по многотомному агамбеновскому проекту под общим названием Homo Sacer. Однако самая общая рамка агамбеновской философии так и останется по-хайдеггериански широкой: негация содержания и (само)опустошение — самыми разными средствами — западного человека, этого, по точной формулировке, человека без содержания. И в этой перспективе работа 1970 года выглядит как сильное начало еще более сильного — длиною во всю философскую жизнь — продолжения, вне рамок которого сила начала будет смотреться, пожалуй, не столь убедительной.
- Агамбен Д. Человек без содержания. С. 38.
- Там же. С. 52.
- XVII век как начало Модерна разве что делает ярче, яснее исконные предпосылки истории нигилизма, связанной, как мы видим, с мышлением о причинах. В этом отношении любопытно, что столь не похожий на Агамбена мыслитель, как Грэм Харман, в статье «О замещающей причинности» отмечает: «Начиная с XVII в. причинность редко становится собственно объектом исследования». — См.: Харман Г. О замещающей причинности // Новое литературное обозрение, № 114, 2012. С. 75–91.
- Агамбен Д. Человек без содержания. С. 80.