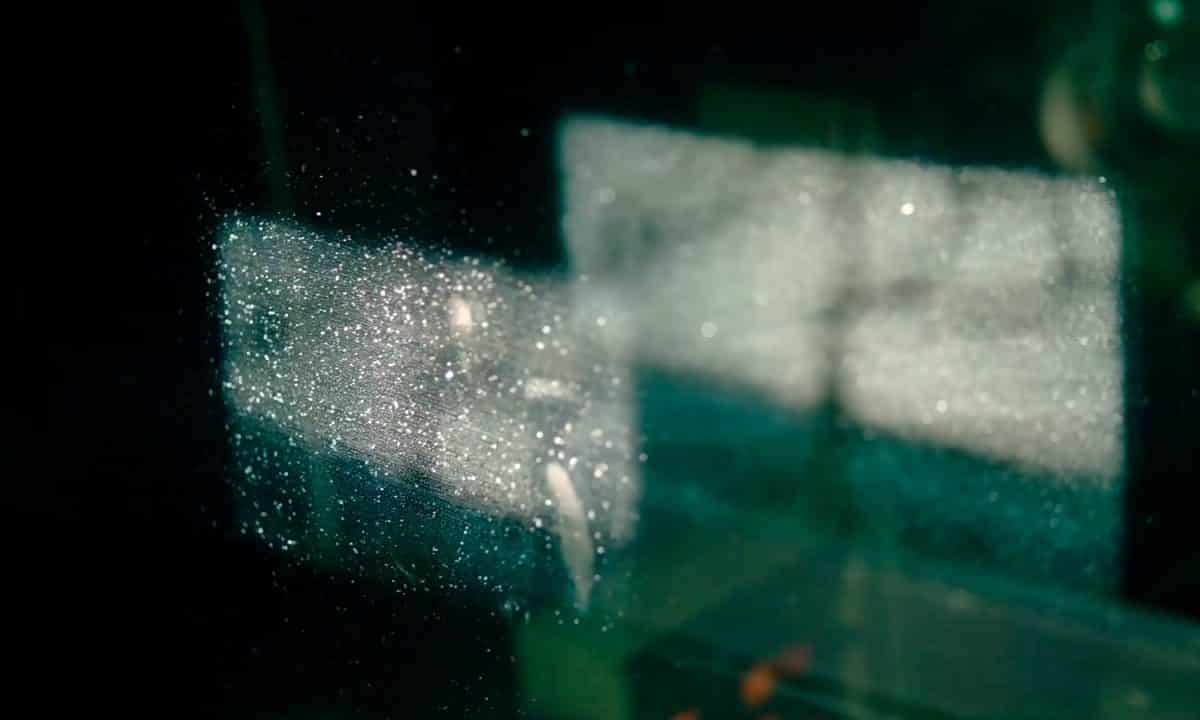До 14 декабря в кинотеатре «Звезда» проходит фестиваль «Панорама». Кинокритик Михаил Захаров посмотрел три фильма из программы — «Пусть лето больше не настанет никогда» Александра Коберидзе, «Наживку» Марка Дженкина и «Ромком» Элизабет Сэнки, — рассказывает об их критических оптиках (постколониальной, антиджентрификационной, феминистской) и о том, где они выстреливают по-настоящему, а где работают вхолостую.
«Пусть лето больше не настанет никогда» Александра Коберидзе
Ни у одного персонажа этого предельно абстрактного фильма нет имени. Молодой человек из грузинской провинции приезжает в Тбилиси на постоянно откладывающиеся вступительные испытания в танцевальную труппу, по стечению обстоятельств попадает в мир нелегального бокса и гомосексуальной секс-работы и влюбляется в одного из своих клиентов, военного офицера. Каждое действие главного героя дублируется голосом рассказчицы, которая также пересказывает основную суть немногочисленных разговоров. Диалоговые субтитры отсутствуют, и зрителю, не говорящему по-грузински, ничего не остается, кроме как довериться рассказчице. А поскольку в фильме не показано ничего из того, о чем она говорит — молодой человек ни разу не танцует и не проявляет чувств на экране, — то из мелодрамы фильм превращается в размышление о надежности рассказчика, манипулятивном потенциале кино и невозможности адекватной репрезентации военного конфликта1.

Неизбежные сравнения с «А потом мы танцевали» Левана Акина, другой грузинской фестивальной новинкой о гомосексуальном танцоре, отметаются с первых же минут: это совершенно неспектакулярный фильм с монструозной (3,5 часа) продолжительностью, в котором нет танцев под Робин; он почти целиком снят на низкокачественную камеру телефона Sony Ericsson, которая размывает очертания предметов и создает одновременный эффект документального репортажа и гиперреалистического мультфильма. Фонари, уносящиеся вдаль в начале фильма, напоминают световые вспышки во время космического трипа в кубриковской «Одиссее». Тела смазываются в танце и бое, подтормаживают и проскальзывают, но сам кадр остается неподвижным благодаря специально сконструированному штативу. Процесс абстрагирования сюжета и изображения увенчивается бесстрастным, словно позаимствованным из фильмов Фароки голосом рассказчицы и годаровскими интертитрами (один из них даже содержит математическое уравнение, подсчитывающее, сколько денег молодой человек заработает, оказывая секс-услуги).

На цифровую камеру Alexa сняты лишь три эпизода, служащие перебивками между сюжетными главами: в каждом из них демонстрируется проекционная комната со слепящим лучом прожектора. Голос молодого рассказчика вновь и вновь возвращается к травме, трижды повторяя историю о лете 2008 года и с каждым рефреном сообщая все больше подробностей: началась российскоско-грузинская война, в выключенном холодильнике растаяло масло, к утру по дому распространился отвратительный запах — аллюзия надвигающейся войны. Вынося повествование о войне в проекционную, то есть на метауровень, Коберидзе демонстрирует интерес к работе кинематографического аппарата, характерный для Берлинской школы2. Если, согласно Хито Штейерль, poor image, то есть «плохая (или бедная) картинка», является аналогом люмпен-пролетариата от мира изображений, то в фильме Коберидзе она дает голос угнетенному народу: сайт-специфичный фильм полностью открывается только носителям грузинского, а Коберидзе осуществляет культурную деколонизацию, снимая на простейшее, намеренно примитивное оборудование и отказываясь переводить грузинскую речь.
«Наживка» Марка Дженкина
«Наживка» — полуторачасовой флешбэк: Мартин, рыбак в небольшом городе на побережье Корнуэлла, отправляется в море с новой командой и вспоминает, что произошло с прежней. Флешбэк становится основным приемом не только на драматургическом, но и на техническом и стилистическом уровнях. Известный своими экспериментальными короткометражками, Дженкин работает исключительно с Bolex — аналоговой камерой из 1970‑х, на одну пленку которой помещаются 2 минуты 45 секунд. Фильм целиком снят на 16-миллиметровую черно-белую пленку с записью звуковых эффектов и диалогов во время постпродакшена (следующая полуторачасовая картина Дженкина также будет пленочной, но на сей раз цветной).

«Наживка» обладает богатой кинематографической родословной. Ее сюжет, посвященный противостоянию между корнцами, коренными жителями Корнуэлла, и джентрификаторами и туристами из больших городов, отсылает к кухонным драмам, визуальное решение (вкрапления суггестивных крупных планов и статичная черно-белая съемка) — к немому авангардистскому кинематографу Жана Эпштейна, возвышенным фильмам Робера Брессона и галлюцинаторным опытам Гая Мэддина, а ассоциативный и параллельный монтаж с неожиданными, немотивированными врезками — к Николасу Роугу. Однако фильм не вызывает ощущения сухого упражнения в кинематографической грамматике. Дженкин помещает в фокус своей критической оптики не только полный цикл обращения товара — поимку рыбы и лобстеров, их доставку и продажу в пабе, — но и грязные человеческие отношения, добиваясь опустошающего эффекта: кульминационная сцена, во время которой действие переключается между тремя локациями, — тур де форс, переживающийся почти на физическом уровне.
«Ромком» Элизабет Сэнки
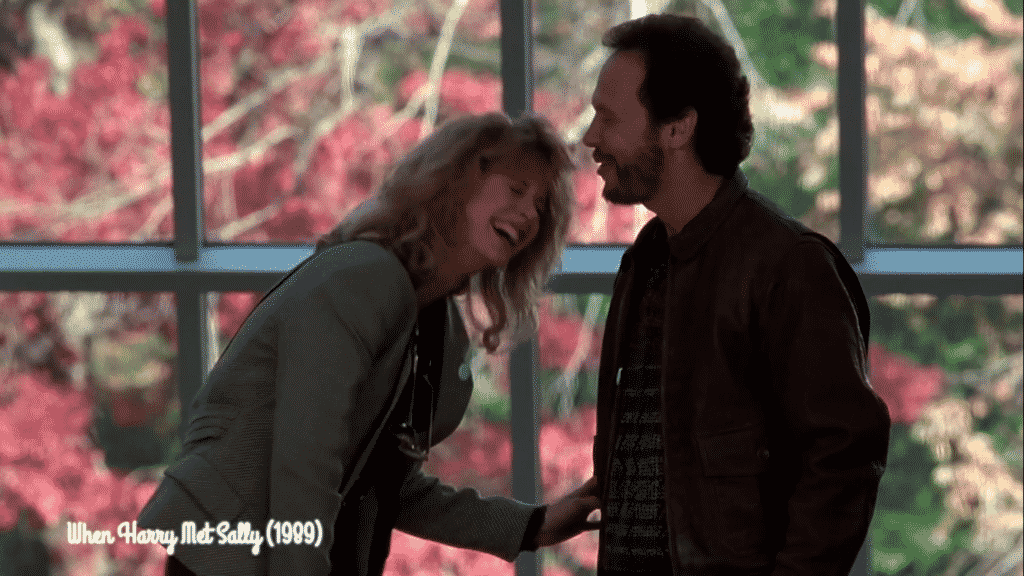
Ромком — один из самых неправдоподобных кинематографических жанров: в видеоэссе «Любовь» художница Трэйси Моффат монтирует любовные сцены из голливудских фильмов (нуаров, приключенческих фильмов, драм, мелодрам и экшенов) и отслеживает паттерны, в соответствии с которыми любовный конфликт зачастую оборачивается вовсе не хэппи-эндом, как в ромкоме, а оргией насилия — выстрелами и пощечинами, которые женщины отвешивают своим мужчинам. В видеоэссе «Ромком» Элизабет Сэнки, нарезав фрагменты из около сотни ромкомов, выявляет и обличает наиболее проблематичные моменты жанра: идеальных главных героинь, которые едят что угодно, но при этом всегда соответствуют мужским представлениям о красоте (мизогиния пробралась даже в хипстерские, номинально прогрессивные ромкомы, например, «500 дней лета»), агрессивных и навязчивых мужчин-сталкеров, картонных второстепенных персонажей (хамоватая подруга главной героини, «карманный гей»), одинаковые свадьбы, гетеронормативность и вопиющую «белизну». Сами героини нередко изображены психопатическими (в фильме «Пока ты спал» героиня Сандры Буллок спасает персонажа Питера Галлахера от смерти под колесами поезда, но тот впадает в кому, и она притворяется его невестой, а затем, «пока тот спит», влюбляется в его брата) и попросту токсичными (в картине «Любовь и прочие неприятности» героиня Сары Джессики Паркер получает деньги от родителей героя Мэттью Макконахи за то, что помогает ему повзрослеть, но вместо этого спит с ним). Однако Сэнки не идет дальше лежащих на поверхности недоразумений, а ее видеоэссе не может решить, чем оно является — то ли это дитя любви, артефакт из «самого мифологизированного и пленительного места на свете — спальни девушки из пригорода», — то ли критическое высказывание. Фрагменты фильмов сопровождаются легкомысленным инди-попом на манер The Pipettes, записанным Сэнки в составе группы Summer Camp, спикеры больше напоминают не критиков, а тусовку друзей, диванных экспертов, собравшихся неформально обсудить любимые фильмы, а сама режиссерка отмечает «человечность» и «красоту» нарративов о притягивающихся противоположностях и человеческой взаимосвязи.

Сэнки совершенно не учитывает кэмповую чувствительность и то, как гомосексуалы кооптируют гетеросексуальные ромкомы, просматривая их сквозь «неправильную» призму иронии и стеба над «тупыми» гетеросексуалами, и ничего не говорит о квир-ромкомах. Многие из них деконструируют жанровый каркас (например, выдающийся и недооцененный в свое время фильм «Неисправимые» (But I’m a Cheerleader), где школьницу отправляют в лагерь для прохождения конверсионной терапии) или переосмысляют политическую составляющую сожительства — так, мокьюментари-шедевр «Женщина-арбуз» рассказывает о любви двух женщин, белой и черной, наслаивая на каркас мелодрамы размышления о репрезентации афроамериканок в кино 1930‑х годов и об их современном статусе.

Кино показывает новые способы мирного сосуществования и новые возможности формирования союзов, без обязательств ублажать большинство. Ромком, рассмотренный с такой позиции, обладает огромным политическим потенциалом, который Сэнки совершенно игнорирует. Когда режиссерка впервые затрагивает тему ромкомов ЛГБТК+, экран единственный раз за весь фильм погружается в полную темноту, потому что Сэнки якобы нечего показать — таких ромкомов, по ее мнению, крайне мало или не существует вовсе. Ближе к концу фильма Сэнки все-таки показывает фрагменты из ромкомов с ЛГБТК+ и небелыми героями и признается, что «никогда не искала» их, потому что она сама — белая гетеросексуальная женщина среднего класса, которой нравятся мейнстримные ромкомы. Сэнки верно критикует индустрию, состоящую из белых мужчин-продюсеров и режиссеров, за вайтвошинг в ромкомах (белые зрители предположительно не смогут идентифицировать себя с героями других рас), но затем прямо противоречит собственным выводам, утверждая, что чувства универсальны и никогда не будут принадлежать только белым людям. Если бы это было действительно так, в индустрии не возникали бы проблемы с дискриминацией, недостаточной репрезентацией небелых людей и слепыми пятнами, куда попадают люди, маргинализованные по различным признакам: телесному из-за инвалидности, гендерному из-за небинарности и экономическому из-за бедности. Недостаточно использовать одни лишь кадры из фильмов, потому что они по определению оставляют изнанку за собственными пределами и не дают представления о том, как функционирует индустрия, производящая на свет чудовищ — в отличие от, например, закулисного репортажа в видеоэссе Харуна Фароки «Образ» (An Image), посвященном производству фотографии для Playboy. Кроме того, вопиющим недочетом фильма является отсутствие в нем неанглоязычных ромкомов — фильмов Педро Альмодовара, Франсуа Озона, Хон Сан-су, изменивших представление о жанре.

На историю жанра — долгую традицию того, как женщина выступает экраном, на который мужчина проецирует свои желания, — отведен короткий экскурс в революционный слэпстик 1930‑х, где мужчина наоборот пытался угнаться за женщиной, кратким анализом прорывной экранной персоны Мэрилин Монро и ромкомов на основе английской классики — Шекспира и Джейн Остин. Видеоэссе Сэнки не учитывает ни того, какую огромную роль так называемые комедии о возобновлении брака3 играли в регулировании сексуальных отношений в 1930‑е — 1940‑е годы, ни того, что многие ромкомы середины и второй половины прошлого столетия были сняты женщинами — например, блистательный, но обрезанный продюсерами «Новый лист» Илэйн Мэй. Толком не разобравшись с ромкомом, Сэнки в какой-то момент заходит на территорию бадди-муви4 и мелодрамы, чтобы проанализировать трансплантацию ромкомных тропов на фильмы других жанров: в качестве примеров она использует картины «Копы в юбках» (2013) и «Божья земля» (2017), никак не аргументируя этот выбор, хотя фильм «Свадьба Мюриэл» (1994), кадры из которого появляются в фильме без комментария, и «Роми и Мишель на встрече выпускников» (1997) сплавляли ромком с бадди-муви задолго до «Копов», не говоря уже о «Подружках» (1978) Клаудии Вайль, феминистской классике, в которой акцент смещен с любовных отношений на едва ли не более важные дружеские. Другими словами, видеоэссе Сэнки балансирует между осоловелой влюбленностью в жанр, прощающей ему все недостатки, и критическим шарлатанством, не учитывающим или игнорирующим многие знаковые образцы жанра.
* * *
Подводя итоги, можно сказать, что фильм Коберидзе остается смелым экспериментом с недостаточно отчетливым критическим контуром, а название фильма Сэнки — «Ромком» — совершенно не соответствует его содержанию («Мейнстримный белый гетеросексуальный ромком для среднего класса»). Сильнее всего действует «Наживка» — она не абстрагируется от своих героев (как это происходит у Коберидзе) и не влюбляется в них (как Сэнки), а перерабатывают их отношения в качестве сырого материала для критики классовой и территориальной дискриминации. В отличие от двух дебютов, в которых режиссеры лишь осваиваются в медиуме, фильм Дженкина на полную громкость, несмотря на интонационную приглушенность, возвещает о прибытии нового оригинального голоса в богатой традиции британского независимого кино, бегущего прочь от больших городов и исследующего жизни непримечательных пролетариев5.
Автора: Михаил Захаров
Редактура: Иван Стрельцов
Подписывайтесь на наш телеграм канал: https://t.me/spectate_ru
- имеется в виду вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008 года. — Прим. ред.
- что неудивительно, учитывая, что режиссер проходил обучение в Немецкой академии кино и телевидения DFFB. — Прим. авт. Берлинская школа — художественное направление в немецком кинематографе, сформировавшееся в конце 90‑х годов 20 века, идейными выразителями которой стали Ангела Шанелек, Кристиан Петцольд и Томас Арслан. — Прим. ред.
- термин философа Стэнли Кэвелла. — Прим. авт.
- поджанр художественного фильма, в котором действуют двое главных героев, связанных дружбой. — Прим. ред.
- Андреа Арнольд, Линн Рэмси, Бен Уитли, Бен Риверс — список можно продолжить фильмами из недавнего топа-100 неочевидных британских фильмов, подготовленного журналом Little White Lies. — Прим. ред.