Гройс Б. Введение в антифилософию / пер. с нем. и англ. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2021
«Исток художественного творения» Мартина Хайдеггера — один из немногих текстов XX века, в которых об искусстве говорится весьма приподнятым тоном. В каком-то смысле (этот смысл прояснится чуть позднее) все приподнятые тона, которые звучали в интерпретациях искусства с момента появления художественного авангарда, созвучны тону хайдеггеровского эссе. Искусство модернизма стремилось уйти от традиционных критериев суждения, классификации и оценки и поэтому демонстрировало новые формы, не имевшие образцов, с которыми их можно было бы соотнести. Тем самым модернистское искусство ставит себя не только по ту сторону добра и зла, но и по ту сторону прекрасного и безобразного, профессионального и любительского, вкуса и безвкусицы, успешного и провального и т. д. Искусство Нового времени преодолевает или подрывает даже традиционное различие между искусством и неискусством. Оно уклоняется от эстетических законов, которые в прежние времена позволяли судить о каждом отдельном произведении. Однако желание ускользнуть от чужого суждения вызывает подозрение в преступных намерениях. Там, где нельзя высказать суждение и вынести вердикт, то есть там, где отсутствует закон, кроются опасность, преступление и насилие. Вопрос лишь в том, какова природа этой опасности и этого насилия.
Антиавангардистская, антимодернистская критика всегда полагала, что эта опасность заключается в стратегиях самоутверждения и завоевания рынка, освоенных художниками в эпоху модернизма. А насилие, которое делает эту опасность опасной, диагностировалось как власть моды и манипуляция общественным мнением, ставшая возможной благодаря новым медиа (в первую очередь, благодаря массовому распространению прессы). Современное искусство характеризовалось как дело рук нескольких жадных до сенсаций шарлатанов, которые проповедуют новое в надежде избежать сравнения со старым. Эта первоначальная оценка художественного авангарда, по большому счету, даже не была исторически преодолена и, несмотря на внешнее признание современного искусства, периодически всплывает в том или ином виде по сей день.
Однако благоволящие модернизму теории обычно интерпретировали уклонение от критического суждения совершенно иначе: не как сознательную коммерческую стратегию, а как результат непреодолимого внутреннего принуждения, которое заставляет художника, порой вопреки его собственной воле, делать нечто другое, новое, преступное и опасное. Это принуждение виделось в различных вариантах: в личной травме, бессознательном или гнете общественных отношений. Но во всех этих толкованиях, оправдывающих современное искусство, неизбежно звучал приподнятый тон, ведь сила, которая, как предполагается, овладевает художником, выводя его за рамки критериев осмысленного суждения и погружая в экстаз абсолютно нового, непременно должна описываться как необоримая, сверхмощная, почти божественная. Из активного и преступного трикстера художник превращается здесь в пассивную сакральную жертву, которая делает видимым нечто обычно недоступное.
Хотя подобные толкования культивировали патетический тон, их эффект обычно оказывался не очень убедительным, поскольку они не могли объяснить, почему тот, кем овладела непреодолимая внутренняя сила, с неизбежностью должен создать нечто новое. И это возвращает нас к первоначальному, более скромному и скептическому объяснению, которое апеллирует к рыночному спросу, к внешнему (а не внутреннему, глубинному) социальному и медийному требованию новаторства, к продуманной коммерческой стратегии. При этом уже Адорно в «Эстетической теории» показал, что признание столь «низких» истоков модернистского произведения не обязательно ведет к его моральному и эстетическому осуждению: именно относительная зависимость современного искусства от законов рынка позволяет ему, согласно Адорно, занять критическую позицию по отношению к этому рынку. Поскольку современное искусство на себе испытало непреклонность рыночных законов, оно и само может обрести непреклонность в радикализме своих инноваций. У Адорно градус патетического тона понижается, однако этот тон не исчезает бесследно: всесилие рынка описывается Адорно в таких резких красках, что уже сам рынок становится у него почти божественной силой, которая овладевает художником, превращая его в свою жертву и тем самым являясь миру.

Самая интересная особенность «Истока художественного творения» состоит в том, что приподнятый тон современной художественной экзегезы достигает в нем своего апогея — и в то же время этот образец экзегезы гораздо меньше отличается от рыночной теории искусства, чем может показаться поначалу. На первый взгляд хайдеггеровская аргументация следует проверенной стратегии модернистской апологетики: значительное произведение искусства, согласно Хайдеггеру, возникает вследствие внутреннего принуждения, внутренней необходимости, а не внешнего расчета. Но сила, диктующая художнику его произведение, такова, что исходящее от нее принуждение к новаторству интуитивно понятно читателю. Эта сила — время. Действительно, мы знаем, что время постоянно несет с собой изменения и инновации, и ожидаем их от него. Поэтому мы охотно признаем, что художник, идущий в ногу со временем, непременно должен создавать нечто такое, чего раньше никто не видел.
Таким образом, ход наших мыслей направляется в русло историзма гегелевского образца: каждое время обладает своими нормами и законами вкуса, образующими определенные культурные эпохи, которые сменяются в ходе истории, в силу чего и художественные стили следуют один за другим. У каждой эпохи — свои критерии оценки. Новая эпоха неизбежно требует нового искусства. Традиция же всегда принадлежит другому, прошедшему времени и поэтому не может определять актуальный вкус. Эта историцистская аргументация выглядит убедительно и в любом случае немало способствовала признанию модернистского искусства. Но Хайдеггер не просто воспроизводит эту аргументацию — он ее существенно модифицирует, поскольку видит ее принципиальный недостаток: настоящее не может быть исторической эпохой, подобной эпохам прошлого, потому что настоящее не имеет соответствующей протяженности, будучи лишь мимолетным переходом от прошлого к будущему.
Разумеется, Хайдеггер верен духу традиционного историзма, когда утверждает, что греческий храм или римский фонтан служат образцовыми воплощениями исторического бытия каждого из этих народов. Он подчеркивает, что произведение искусства живет лишь в эпоху своего создания, после чего, оказавшись в музее, приобретает характер мертвого, архивного, постисторического документа, уже не имеющего непосредственного отношения к истине. Вот как Хайдеггер описывает греческий храм: «Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы для человеческого племени. Владычественный простор этих разверстых связей есть мир народа в его историческом совершении. Из этих просторов, в этих просторах народ впервые возвращается к самому себе, дабы исполнить свое предназначение»1.
Однако патетика, звучащая в этом пассаже, резко идет на спад, когда речь заходит о музейном искусстве: «Творения расставлены и развешаны на выставках, в художественных собраниях. Но разве как творения, как то, чтό они есть? Быть может, они уже стали здесь предметами суеты и предприимчивости художественной жизни? ‹…› Администрация учреждений берет на себя заботу о сохранности творений. Знатоки и критики ими занимаются. Торговля художественными предметами печется об их сбыте. Искусствоведение превращает творения в предмет особой науки. А сами творения — встречаются ли они нам во всей этой многообразной деятельной суете?»2 Ответ на этот вопрос нетрудно угадать: нет, не встречаются, ибо «сам мир наличествующих творений уже распался. Отъятие мира и распадение мира необратимы. Творения уже не те, какими они были. Правда, они встречаются с нами, но встречаются как былые творения. ‹…› И впредь они лишь предстают — они предметы»3. Музейное искусство, следовательно, не имеет сущностного значения для нашего времени и никогда его не приобретет, поскольку это искусство навсегда принадлежит прошлому и внутренне умерло вместе с ним — пусть даже его безжизненная внешняя форма заслуживает сохранения из научных и коммерческих соображений.
Несмотря на свою историцистскую, романтическую, антиклассицистическую установку, Хайдеггер не намерен в очередной раз повторять банальности об искусстве, которое принадлежит своему времени и должно меняться вместе с ним. В самом деле: опыт того, чем занималось искусство с момента появления художественного авангарда, показывает, что это искусство как раз не соответствует критериям своего времени, не вписывается в него. Современное искусство противостоит не только вкусу прошлого, но и преобладающему вкусу своей эпохи. В этом смысле современное искусство меняется не вместе со временем, а вразрез со временем или по крайней мере в соответствии с другой временнόй логикой, отличной от господствующих представлений об искусстве и от исторического бытия народа. Современное искусство зовется современным по праву, но оно чуждо своей эпохе. Поэтому современное искусство и вызывает у зрителей подозрение, что оно, подобно хранимому в музеях искусству прошлого, целиком и полностью относится к ведомству арт-рынка и искусствоведения и не имеет никакого отношения к «жизни народа» и ее актуальным проблемам. Чтобы развеять это подозрение, требуется самый патетический тон.
Хайдеггер прибегает к этому тону как раз потому, что он, как довольно скоро становится понятно, хочет оправдать современное искусство. Пусть даже такое толкование игнорирует ряд деталей и что-то упрощает, но если попытаться определить основную интенцию этого текста, то можно сказать, что Хайдеггер относит произведение современного искусства не к прошлому и не к настоящему, а к будущему. В этом смысле его теория искусства радикально футуристична. Истинным художником является для него тот, кто открыт грядущему и способен предчувствовать будущее, идущее на смену настоящему. При этом Хайдеггер ожидает от будущего — и в этом ожидании он солидарен с большинством своих современников (текст был написан им в 1935–1936 годах) — не стабильности, а перемен, не непрерывности, а слома, не инерции, а события.

Хайдеггер определяет искусство как «устроение истины вовнутрь творения», как изначальный и подлинный способ самораскрытия бытия, сопоставимый только с основанием государства, существенной жертвой и вопрошающим мышлением4, но, скажем, не с наукой, поскольку наука имеет дело с тем, что уже существует, в то время как искусство, подобно основанию государства и жертве, основывающей религию, имеет дело с тем, чему еще предстоит явиться на свет, что пока только возвещает о себе, но осуществится, вероятно, лишь в будущем. Великий художник способен предугадать будущее и проложить ему путь посредством своего произведения: «Как раз в большом искусстве, а речь идет только о нем, художник остается чем-то безразличным по сравнению с самим творением, он бывает почти подобен некоему уничтожающемуся по мере созидания проходу, по которому происходит творение»5. Истинный художник пассивен. Но это пассивность особого рода, которая открывает врата могущественнейшим силам бытия или, другими словами, уже втайне преобладающей, но все еще скрытой от большинства всемирно-исторической тенденции. Вот почему искусство — это «учреждение истины»6. Образцом здесь вновь служит Древняя Греция: «Все, что с тех пор именуется бытием, было положено тогда вовнутрь творения — как задающее меру»7.
Самораскрытие бытия или самопроявление истины в искусстве делает искусство пророческим. При этом искусство отнюдь не слепо и не безумно. Пусть художником и владеет сила бытия, но он позволяет ей овладеть им. Пассивность большого искусства намеренна и, следовательно, по-своему активна. Искусство приоткрывает нам будущее, но оно в то же время учреждает это будущее. В этом смысле искусство изначально: оно стоит в начале истории, которую еще предстоит прожить. Современное искусство принадлежит настоящему так же мало, как и искусство классическое, ибо оно принадлежит будущим историческим эпохам. Хайдеггер распространяет классический историзм на будущее и с помощью этой расширенной концепции историзма оправдывает современное искусство.
Толкование искусства как откровения или учреждения истины грядущего бытия означает высочайшую похвалу искусству, на какую только способен философ, чье призвание требует от него заботиться главным образом об истине. Эта формула соответствует приподнятому тону, которым следует говорить об искусстве — но только о «значительном» искусстве. Только такое искусство нельзя критиковать, судить и анализировать научными методами, поскольку оно впервые показывает будущую истину, а значит, стоит выше настоящего: «Вообще нельзя судить о вещном в творении, доколе творение не явилось со всей отчетливостью в своей чистой самостоятельности. Но бывает ли доступно творение само по себе? Чтобы такое удалось, нужно было бы высвободить творение из связей со всем иным, что не есть само творение, и дать ему покоиться самому на себе и для себя»8. Только если произведение искусства освобождено от всяких связей с настоящим — и, следовательно, исключена всякая возможность судить об этом произведении критически, — оно может явиться нам как пророческий образ грядущего бытия. В этом случае уже само произведение судит настоящее, показывая ему его будущее и одновременно выводя это будущее на сцену. Произведение искусства и его зритель меняются местами: теперь не зритель судит произведение, а произведение зрителя, показывая ему будущее, в котором этого зрителя, возможно, уже не будет.
Уже в «Бытии и времени» истина индивидуального Dasein возникает из экзистенциального проекта — по сути из предполагаемого будущего. В дальнейшем исходный индивидуальный проект мыслится Хайдеггером как одобренное бытием, то есть как пророческое согласие с неизбежным историческим будущим, готовность принять промысел бытия — «l’engagement par l’Être pour l’Être»9, как выражается Хайдеггер в «Письме о гуманизме». Но на всех этапах развития философии Хайдеггера будущему отводится одно- значно привилегированная роль. И великая философия, и великое искусство являются, выражаясь языком современного менеджмента, перспективными, ориентированными на будущее — и как таковые не подлежат критике, анализу и опровержению. Никакой современный критик не может решать судьбу подобного перспективного мышления или творчества, ибо никто не знает, что это будущее нам принесет. Любая инвестиция в будущее сопряжена с неустранимым риском. Лишь само будущее решит, окупилась ли интеллектуальная или художественная инвестиция. Но тот, кто идет на такой риск, в любом случае превосходит осмотрительного ученого, поскольку даже его проигрыш больше говорит о бытии, чем любой научный анализ. В этом смысле хайдеггеровская экзегеза искусства представляет собой философию менеджмента и рынка, а также философию борьбы и войны. В ней идет речь о шансах на успех в будущем, которое остается скрытым от нас, а также о решимости идти навстречу этому будущему несмотря ни на что, учредить его, сделать возможным его всемирно-историческое осуществление. Перед лицом этой задачи любые современные расчеты и соображения действительно имеют сомнительную ценность.
Но если наша способность воспринимать произведение искусства «покоящимся на себе и для себя» зависит от решения высвободить его «из связей со всем иным» — тем, что не является самим этим произведением, — то такое решение должно быть как- то обосновано, если только оно избирательно. В противном случае представимо, что любое произведение искусства может восприниматься подобным образом. Различие между «значительным» и незначительным, «большим» и малым искусством, которое Хайдеггер все же хочет сохранить, оказывается в этом случае безосновательным, ведь за счет высвобождения произведения искусства из связей со всем иным, то есть с музеем, арт-рынком и тому подобным, мы можем придать значимость любому приглянувшемуся нам произведению. В том, что касается музейного искусства прошлого, Хайдеггер в своем выборе следует устоявшейся традиции: он принимает как нечто очевидное, что музей, арт-рынок и искусствоведение занимаются только теми произведениями, которые в определенные моменты истории заявили о своей учредительности в исторических судьбах того или иного народа. Сначала произведение должно утвердиться в живой исторической реальности, а затем, в следующий период времени, оно устаревает и оседает в музее. Такая последовательность представляется Хайдеггеру единственно возможной.

Но как нам опознать новое значительное произведение искусства, если ему предстоит обрести исторический успех лишь в будущем? Как отличить незначительное искусство от значительного, которое превосходит горизонт ныне существующего заодно со всеми его критериями?
Ответ на этот вопрос, который, как и многое другое в тексте Хайдеггера, скорее подразумевается, чем формулируется, подсказывает, что полного преодоления настоящего в значительном произведении искусства в действительности не происходит. Ключевой критерий всегда сохраняется; этот критерий — формальное новаторство. Значительное произведение обнаруживает свою значимость благодаря тому, что оно новаторское. Хайдеггер пишет: «Истина, творящаяся в творении, расталкивает небывалую огромность и вместе с тем опрокидывает всякую бывалость и все, что принимается за таковую. Истину, разверзающуюся в творении, никогда нельзя поверить бывшим ранее, никогда не вывести из бывалого. Все, что было прежде, опровергается творением в своих притязаниях на исключительную действительность. А потому то, что учреждает искусство, не может быть возвещено и оспорено ничем наличным, ничем находящимся в распоряжении. Учрежде- ние есть избыток, излияние, принесение даров»10. И в другом месте: «И чем существеннее это побуждение входит в разверстость, тем более странным и тем более одиноким становится творение»11.
То, что выдается в этих фразах за простое описание, больше напоминает нормативное предписание: значительное произведение искусства — это такое произведение, которое не может быть понято исходя из того, что было, которое порывает с привычками восприятия. Отсюда следует (хотя прямо этот вывод опять же не формулируется), что значительным следует признать только такое искусство, которое не может быть понято исходя из того, что было. А это задает формальный критерий для определения такого искусства: значительное искусство — это искусство новаторское, ведь если оно не может быть понято исходя из того, что было, оно должно пониматься исходя из того, что будет. Хотя вкус самого Хайдеггера не был особенно «прогрессивным», остановившись на умеренном экспрессионизме, его теория искусства отдает однозначное предпочтение искусству радикальному, авангардному и новаторскому, побуждая художника со всей решительностью демонстрировать «небывалое». Таким образом, хайдеггеровская теория искусства оказывается апологией художественного модернизма.
Становится очевидной общая предпосылка хайдеггеровской философии искусства: все, что происходит в искусстве, происходит во времени. Если произведение не связано ни с прошлым, ни с настоящим, значит, оно пришло из будущего. То, что сегодня представляется новым, есть предвосхищение грядущей исторической нормы: новаторское произведение искусства — это обещание более поздней, посюсторонней, исторической нормы. Звучит убедительно. Но зададимся вопросом: каким образом то, что случится лишь в будущем, тем не менее манифестируется в произведении уже сейчас, в настоящем, и может рассматриваться как искусство?
Ответ на этот вопрос дается Хайдеггером в его рассуждении о «просвете»: возможность предвосхитить будущее описывается и постулируется как просвет бытия. «Посреди сущего в целом бытийствует открытое место. Это просвет. Если мыслить его, исходя из сущего, то он бытийственнее всего сущего. Поэтому не зияющая средина окружена сущим, а, напротив, просветляющая средина окружает все сущее, кружа вокруг сущего, как ничто, которое мы почти не ведаем»12. Если сущее в целом есть то, что уже есть, то есть настоящее, которое может изучаться средствами науки, то просвет позволяет заглянуть в будущее, предстоящее, неизвестное — в то, что, однако, более могущественно и «бытийственно», чем наличное сущее, поскольку способно отменять настоящее. В этом пункте тон Хайдеггера достигает максимальной высоты. Однако повышение тона всегда означает угрозу. А любая угроза имеет общую форму: «Вот увидишь, что с тобой случится»; «Скоро ты испытаешь то, чего еще никогда не испытывал»; «Я покажу тебе нечто настолько невероятное, что ты ослепнешь» и т. д. Высокий тон — это всегда тон апокалиптический: он обещает сияние посреди просвета бытия, которое покажет нам небывалое и заставит исчезнуть все, что было прежде. Любое пророчество призывает беды на головы неверующих, пытающихся судить о будущем в соответствии с вчерашними и сегодняшними критериями. В просвете бытия мы предчувствуем то, что приобретет актуальность в будущем, что осуществится и добьется успеха. Если снова прибегнуть к языку менеджмента, просвет бытия — это рыночная ниша, которую должен занять перспективный предприниматель, ориентированный на будущее.
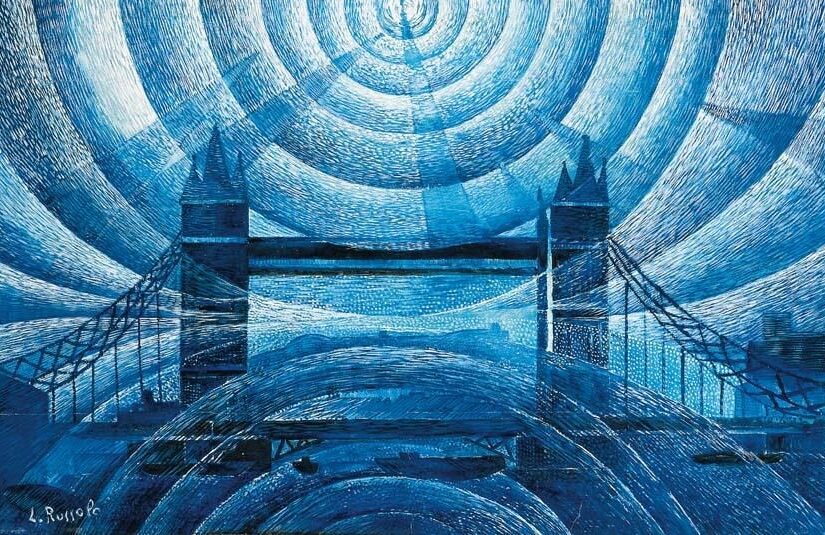
Философия Хайдеггера — это философия исторического успеха; по-видимому, именно поэтому она и сама оказалась исторически весьма успешной. И одновременно это философия борьбы. Но в отличие от Ницше — другого философа борьбы, который, однако, не верил в то, что будущее может быть иным, непохожим на прошлое и настоящее, — Хайдеггер сулит своим читателям возможность грядущей победы или, во всяком случае, изменения, потрясения, появления чего-то совершенно нового. Он не принимает в расчет возможность безнадежного ницшеанского вечного возвращения того же самого. Формальная инновация или небывалость произведения искусства служат для Хайдеггера знаками способности такого произведения заглянуть в будущее.
Однако всякая философия победы должна быть также философией поражения. И в просвете бытия нам могут явиться как победа, так и поражение: «А одновременно сокрытие, хотя и иным способом, находится внутри просветленного. ‹…› И здесь сокрытие тоже не есть просто недопущение — сущее, вообще говоря, является, но выдает себя за нечто иное по сравнению с тем, чтό оно есть. Такое сокрытие есть притворство. ‹…› Сущее может обманываться, будучи видимостью, — вот условие того, что мы можем обманываться, а не наоборот»13. Заметим, что к моменту написания этих строк Хайдеггер уже успел оставить пост ректора Фрайбургского университета. Но побеждает лишь тот, кто рискует, — тот, кто отваживается вступить в «спор просветления и сокрытия». Так, произведение искусства связывает с «Землей» и сущим его материальность, его вещественность, скрывающая за собой грядущее сущее. Поскольку произведение искусства остается всего лишь вещью, оно не может быть абсолютно новаторским — его сдерживает Земля. Однако Хайдеггер предупреждает читателя, что Земля не является неизменно скрывающей, а истина — открытой: его пространные рассуждения в начале текста призваны продемонстрировать, что именно вещность произведения связывает Мир, который это произведение открывает, с сущим.
Хайдеггер хочет со всей решительностью продемонстрировать, что в произведении искусства нет ничего, что не было бы материальным, вещным. Любое произведение, сколь бы высокими ни были его притязания, есть всего лишь вещь, говорит Хайдеггер, — вещь в том смысле, в каком ее воспринимает уборщица, работающая в музее. От прочих вещей ее отличает лишь способность открывать Мир. Но эта способность не отменяет того факта, что произведение искусства по своей природе является вещью. То, как произведение искусства, будучи вещью, делает видимым Мир, Хайдеггер показывает на примере картины Ван Гога, изображающей пару башмаков. Этот пример стал знаменит; он во всех деталях и с разных позиций обсуждался другими авторами14. Но нас в данном случае интересует другой аспект хайдеггеровского текста, а именно ключевой вопрос о том, действительно ли исток художественного произведения заключается в «споре просветления и сокрытия», который лишь на первый взгляд напоминает дуализм аполлонического и дионисийского, описанный Ницше. А учитывая то, что этот спор определяет, по Хайдеггеру, наше отношение к будущему, к грядущему бытию, то лучше будет спросить так: действительно ли исток значительного произведения искусства лежит в будущем?
Для начала следует заметить, что формальное новаторство не обязательно означает, что произведение искусства явилось к нам из будущего. Хайдеггер придерживается традиционной концепции, гласящей, что произведение непременно берет начало в представлении, которое ему предшествует: если произведение не отображает знакомую нам реальность, то оно должно по крайней мере отображать ее будущие возможности — то небывалое, что уже таится в известном. Заглянуть в будущее художник может благодаря просвету бытия, который наделяет его новым видением — пусть даже обманчивым — и позволяет выйти за рамки привычного и «бывалого». Но это представление, которое, согласно Хайдеггеру, служит источником произведения искусства, в действительности вовсе не является необходимым условием его появления. Художественная новация может возникнуть из чисто технической, материальной, вещественной и манипулятивной игры с формами путем их повторения и изменения. Для новаторства достаточно иметь представление об уже существующем искусстве и принять решение создать нечто новое, формально от него отличное. Понять, что необходим просвет бытия, позволяющий отнести источник этой новой формы к будущему и тем самым приписать ей пророческое измерение, можно лишь после того, как эта форма предъявлена. Это приводит к заключению, что сам этот просвет может мыслиться лишь в свете новой формы, а не наоборот. Только сталкиваясь с новой художественной формой, мы начинаем испытывать необходимость в просвете бытия, чтобы объяснить происхождение этой формы. Следовательно, просвет бытия берет исток в произведении современного искусства, а не наоборот.
Но где, если не в будущем, следует искать исток произведения современного искусства? Решение этого вопроса наталкивается на предубеждение, что каждое художественное произведение появляется в определенную эпоху и выражает ее историческое бытие, — предубеждение, которое, как мы уже заметили, Хайдеггер полностью разделяет. Согласно этому предубеждению, музей собирает (арт-рынок продает, искусствоведы обсуждают и т. д.) только такое искусство, которое уже заявило о себе и утвердилось в исторической реальности. Кажется, что новаторское произведение искусства должно, в свою очередь, сначала утвердиться в будущей реальности, чтобы позднее занять место среди произведений прошлого как свидетель своей эпохи, — должно сначала существовать в реальности, затем перейти в музей. Но именно эту последовательность современное искусство ставит под вопрос.

Произведение современного искусства проделывает обратный путь: сначала оно должно утвердиться в музее, чтобы затем перейти в реальность; как и все прочие продукты нашего времени, оно должно пройти техническую проверку, чтобы стать доступным для потребителей. Модернистский принцип автономии искусства основан как раз на этой инверсии отношения между художественными институтами и исторической реальностью. Современный музей представляет собой огромное хранилище знаков, которые могут использоваться людьми для самоописания. Поэтому будет ошибкой утверждать, как это делает Хайдеггер, что произведения искусства прошлого окончательно потеряли релевантность для жизни и влачат музейное существование исключительно на правах памятных исторических документов. Нам хорошо известно, что художественные формы прошлого могут использоваться совершенно по-новому, маркируя определенные позиции в контексте настоящего. Но точно так же новая, незнакомая художественная форма может использоваться, чтобы придать кому-то или чему-то футуристический облик.
Создание новой художественной формы, которая в условиях современности моментально попадает в музей, если она выглядит ново и интересно по сравнению с хранящимися там художественными формами, служит для того, чтобы расширить репертуар знаков, имеющихся в распоряжении у общества для различающего самоописания. Но сказанное еще не означает, что эти новые формы определяют историческое бытие будущего или что они вообще будут использоваться в контексте исторической реальности будущего. Может, будут, может, нет. Поэтому невозможно отличить «значительное» произведение искусства от незначительного, исходя из его истока. Кроме того, произведение искусства может не быть «значительным» в хайдеггеровском смысле, то есть ориентированным на будущее, уже потому, что будущее в ситуации современности представляется нам не как новый, тотализирующий, исторический модус бытия, а скорее как возможность использовать все модусы бытия, имеющиеся в нашем распоряжении, — и значительные, и незначительные. Конечно, объяснение произведения современного искусства как перспективного и пророческого, которое неизбежно склоняет критиков, разделяющих эту точку зрения, к приподнятому тону, означает переоценку произведения искусства — но вместе с тем и возможную недооценку, в случае если выяснится, что будущее выглядит иначе, чем это произведение предсказывало.
Успех новой художественной формы во внутреннем контексте музея и других институтов искусства не дает никаких обещаний относительно реального исторического использования этой формы. Однако отсутствие таких обещаний никоим образом не является знаком неудачи, поражения и обмана. Дискурс художественной критики располагает средствами, позволяющими ему привести вполне разумное обоснование того, что данное произведение искусства — по сравнению с другими произведениями — ново. Если это обоснование принимается, то произведение включается в репертуар общественно признанных знаков и предоставляется в наше распоряжение. И это обоснование, и принятие в музей сохраняют силу даже в тех случаях, когда спрос долгое время отсутствует и это произведение не пользуется широким успехом. Современные художественные институты действительно в некотором смысле ориентированы на рынок, но в то же время они относительно независимы от него. Художественное новаторство в этих условиях отнюдь не означает ничем не контролируемый риск. Художник не предоставлен целиком и полностью борьбе, рынку или просвету бытия, скрывающему от него его судьбу, поскольку его успех или поражение могут быть обманчивы.
Время музея — это другое, гетерогенное время, сопоставимое с историческим временем в понимании традиционного историзма. «Историческое» время — это время чередования определенных исторических форм искусства и культуры, которые доступны для использования (или неиспользования). Музей в эпоху модернизма стоит не в конце истории, а в ее начале — и, возможно, служит подлинным источником произведения современного искусства.
Перевод: Андрей Фоменко.
Благодарим издательство Ad Marginem за любезно предоставленный препринт.
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Хайдеггер М. Исток художественного творения / Пер. А. Михайлова. М.: Академический проект, 2008. С. 137.
- Там же. С. 134–135.
- Там же. С. 135.
- Там же. С. 181–183.
- Там же. С. 133.
- Там же. С. 209.
- Там же. С. 215.
- Там же. С. 133.
- Захваченность Бытием для Бытия (франц.).
- Там же. С. 211.
- Там же. С. 191.
- Там же. С. 161.
- Там же. С. 163.
- См., в частности: Derrida J. La Verité en peinture. Paris, 1978. P. 293 ff.


