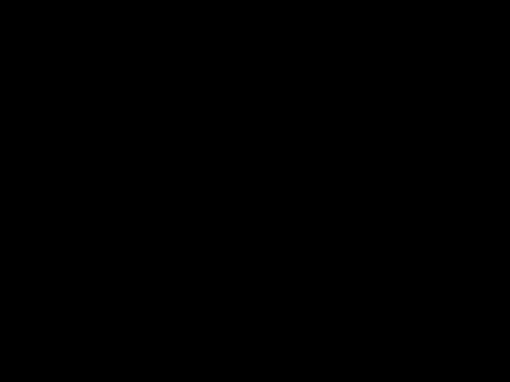Между роскошью и Холокостом
2010‑е начались с оптимизма протестных движений, а закончились тотальным разочарованием, граничащим с асфиксией, нелепыми судами с невыносимыми сроками и общим ощущением отсутствия не то что перспектив, но и элементарного выбора. Если в первой половине 2010‑х пробуждение политического самосознания вызывало воодушевление и надежду на скорые перемены к лучшему, то к концу декады протест превратился в мучительную в своем постоянстве и бессилии форму коллективного бытования с редкими, но тем более радостными победами.
Подводя итоги десятилетия в издании о современном искусстве, можно было бы рассуждать о новых выставочных практиках, удачных экологических инициативах крупных институций и даже составить список лучших выставочных проектов десятилетия, но мыслить искусство как автономное поле сегодня кажется невозможным. Несмотря на то, что у искусства есть внутренние задачи, связанные с развитием собственного инструментария, архивацией, отбором и демонстрацией артефактов и идей, говорить исключительно о них кажется любопытным, но недостаточным.
Должно ли в нынешних условиях все искусство немедленно стать политическим? Едва ли это возможное требование. Само понятие «политического» усложнилось до предела и давно вышло за рамки прямого акционизма и указания пальцем на ужасы капитализма, тоталитаризма, you name it. Политика — больше не радикальный манифест, но набор ежедневных микроскопических выборов. Выбор тем, акцентов, оптик, спонсоров, площадок и партнеров, лингвистических конструкций, способов организации труда и фигур умолчания — из этого теперь формируется ежедневная политическая повестка. Разговор об экологии как новой политике в этих условиях может стать как прекраснодушным эскапизмом, поводом для ухода от обсуждения острых вопросов, так и площадкой для конструирования новых способов совместного проживания.
Разговоры об условиях труда и принципах совместного существования, рефлексия питающих искусство капиталов, общая усталость от капитализма, озабоченность антропоцентризмом и колониальным наследием, пересмотр стратегии и тактики художественных практик и самой истории искусства через феминистскую и прочие инклюзивные оптики, поиск новых онтологий и стратегий вкупе с рефлексией художественного инструментария — это и есть сегодняшний сложносоставной разговор об искусстве.
Едва ли опыт 2010‑х можно считать завершенным, но совершенно очевидно нужна небольшая передышка, чтобы осмотреться, понять, с чем мы имеем дело, и решить, как действовать дальше.
Этим материалом мы открываем серию публикаций, в которых постараемся осмыслить прошедшее десятилетие, определяющие его явления и противоречия. Время манифестов прошло. Пришло время сложных разговоров.
ОБ
Сергей Гуськов
журналист, критик, редактор (журнал «Диалог искусств»)
2010‑е стартовали в раскаленной социально-экономической ситуации — кризисы, протесты, падения правительств. Взрывной рост популизма политиков, как властвующих, так и находящихся в оппозиции, отразился в лозунговости художественной продукции и чрезмерном кураторском дирижизме (иногда для виду прикрывающимся словами о горизонтальности). В первой половине 2010‑х этот процесс, зародившийся на заре предыдущего десятилетия, достиг пика.
Однако в 2014–2016 годах, одновременно с общемировой политической реакцией, волна пошла на спад. Художников унесло в сторону паранормального, нечеловеческого, мифов и мистификаций. Вопросы политического характера (экономическое неравенство, гендерно-постколониальный комплекс, экологическая катастрофа) ставятся, но играют скорее дополнительную роль. Они стали оформлением к магистральному топику сверхъестественного — альтернативному, как считается, предыдущему господствующему дискурсу. Если в 1990‑е все должно было быть прикольно, в 2000‑е и начале 2010‑х — серьезно, то в последние лет пять — загадочно.
Сущностный художественный радикализм стал выветриваться из современного искусства с середины десятилетия. Этот процесс символически сопровождал каскад столетних годовщин основных вех авангарда — первого «Манифеста футуризма», выставки «0,10», дебюта дадаистов в «Кабаре Вольтер», «Черного квадрата», «Фонтана», «Памятника III Интернационала». Тогда же, кстати, «закруглился» юбилеями, правда полувековыми, второй авангард 1960‑х. Редкие сегодня выступления за модернизм или новую революцию в искусстве принадлежат, что характерно, героям 1990‑х и тонут в общем потоке нормализации художественного процесса. К концу 2010‑х было сформулировано несколько объяснений происходящему. Надя Плунгян считает, что мы живем в эпоху неомодернизма, которому не свойственно новаторство (он, скорее, декоративен) и который просто закрывает долгий ХХ век в искусстве, а в ближайшей перспективе стоит ожидать рождения нового большого стиля. Для Натальи Серковой происходящее означает отказ от ошибок предыдущих лет — насильственной дискурсивной перегруженности искусства, нежелания формального и технологического совершенствования, ограничения некоторых способов восприятия по идеологическим причинам.
От себя я бы добавил к этим двум гипотезам следующую: ощущение пустоты и безвременья, которые сгустились по всему миру, вкупе с триумфальным возвращением мифологического сознания образует питательный бульон, из которого может выйти что угодно. Момент опасен и по-своему прекрасен своей непредсказуемостью.
Мы стали свидетелями того, как мир снова был разбит на малюсенькие осколки. Страны, регионы и сообщества отгородились друг от друга. Еще в начале 2010‑х аксиомой считался интернациональный характер художественного процесса, но уже как минимум последние года четыре это не так. Такая привычная вещь, как общий язык, больше не работает. Речь идет не об английском (хотя его «всеобщность» уже сильно под вопросом), а о наборе ценностей, понятий и подходов, с которыми все представители среды были бы более-менее согласны. Большие международные проекты, типа Венецианской биеннале и «Документы», которые были призваны скреплять интернациональную арт-сцену, стремительно провинциализируются и подвергаются распаду. А вот инициативы на местах, наоборот, расцветают, несмотря на финансовые трудности и подножки многочисленных недоброжелателей. Характерно, что в подборке лучших выставок десятилетия на сайте Hyperallergic среди в основном обычных музейных проектов затесалась Биеннале в Шардже, отмеченная не за конкретный выпуск, а в целом за продуктивную деятельность в течение 2010‑х. Похожие процессы происходят и в России. На фоне деградации Московской развивается Уральская биеннале. Куда в итоге приведет этот новый регионализм, впрочем, не совсем ясно.
Иван Новиков
художник
Прошедшие десять лет стали своего рода «рестартом» живописного дискурса. Если признать тезис о «смерти живописи» в XX веке, то в 2010‑х художники и кураторы предприняли успешную попытку ее «оживления». Такое общее описание позволяет кратко изложить суть происходивших в живописи событий.
Пожалуй, все началось с публикации в 2009 году статьи Дэвида Джозелита «Живопись вне себя». Нет смысла пересказывать ее основные тезисы — настолько этот текст сегодня известен. Статья явилась самоисполняющимся пророчеством живописи 2010‑х. На первый взгляд, она описала практики отдельных художников начала нулевых. Но, с другой стороны, Джозелит дал язык для осмысления собственной деятельности живописцам прошедшей декады. И это прямым образом повлияло на их поэтику. В качестве примера можно вспомнить деятельность таких авторов, как Адам Авикайнен или Ребека Х. Куайтман. Их проекты за прошедшие десять лет усилили внутренние тенденции к «сетевой» природе живописи и стали «подключаться» к еще более широким смысловым полям.
Россия не стала исключением в рецепции идей «Живописи вне себя». Несмотря на то, что перевод самой статьи был опубликован только в 2019 году, ее основные тезисы (в несколько переработанном виде) вошли в книгу «Искусство с 1900 года» еще в 2015‑м. А первые опыты теоретического осмысления идей Джозелита на русском языке начались с самого начала 2010‑х.
В глобальном контексте уже к середине 2010‑х стал очевиден консервативный поворот в живописи. То, что в 2000‑х казалось трагической попыткой «реанимации», к 2014 году проявилось как фарс. «Зомби-формализм», этот критический ярлык Уолтера Робинсона, обозначил проблемы живописных практик, и этим он, безусловно, важен для истории. Проблема была в том, что живопись, даже «вне себя», опиралась на устаревшие режимы функционирования. «Зомби-формализм» показал, что эта как бы «новая» живопись, заполнившая музеи и галереи, опиралась на идею реваншистского состояния искусства. «Вернемся к тому, что было 1950‑х, и все будет снова хорошо!». Но эта логика вновь привела бы в тупик «смерти живописи». Необходимо было сформулировать иную генеалогию, которая позволила бы живописи развиваться дальше.
Это сделали две выставки в разных концах планеты в 2014–2015 годах.
В Нью-йоркском MoMA Лора Хоптман показала проект «Всегда сейчас: современная живопись в атемпоральном мире». Смотр передовой американской живописи артикулировал ее ключевую характеристику — безвременность. Современные живописцы, по мнению куратора выставки, отказываются от отображения «духа времени» и строят свою практику на переосмыслении множественных исторических стратегий. Представленные на выставке художники, среди которых Шарлин фон Хейл, Рашид Джонсон и Лаура Оуэнс, в своих работах производят эксперимент по вычлененную приемов, мотивов и образов из их исторического контекста. Например, Оуэнс почти ежегодно меняет собственную технику и темы, чтобы ее картины, использующие трансисторические элементы, не воспринимались в контексте определенного периода времени.
В концепции Хоптман не был приговорен лишь один, но важный момент — что это за «новая история», к которой обращаются художники? Ответ на этот вопрос был дан в выставке «Живопись 2.0: выразительность в информационную эпоху», курировали которую Мануэла Аммер, Дэвид Джозелит, Ахим Хохдерфер и Тонио Кренер. Проект показали в венском MUMOK и мюнхенском музее Брандхорста. Кураторы попытались переосмыслить понимание живописи с 1960‑х годов и до наших дней. Скажу больше — они решили сформулировать историю того, что сегодня называется «живописью», отделяясь от традиционного смысла этого термина. Это уже что-то другое, то самое цифровое «2.0» из названия выставки.
Три раздела выставки (каждый куратор отвечал за свой) предложили, помимо критической генеалогии, отличные от конвенциональных методологические языки современной живописи. А раздел «Эксцентричная фигурация», курируемый Мануэлой Аммер, стал именем нарицательным для художников, реактуализирующих идею фигуративной живописи как таковой. Можно вспомнить таких авторов, как Элла Круглянская, Николь Айзенман, Саня Кантаровски, Дана Шутц. Последняя, возможно, заслуживает более подробного разбора, выходящего за рамки этой заметки. Именно произведения Шутц вновь приковали внимание к живописи как политически проблемной практике, о чем свидетельствует скандал вокруг ее картины на Биеннале Уитни в 2017 году.
Все вышеозначенные явления предложили постцифровой подход к пониманию живописи. Насколько он плодотворен — это еще предстоит понять. Но уже ясно, что в 2010‑х годах живописные практики осуществили «перезапуск» и для этого медиума прошедшая декада стала как нельзя более удачной.
Анастасия Кальк
философ, феминистка, создательница канала «Философия Нью-Йорка»
Так вышло, что 2019 оказался поворотным годом уходящего десятилетия. Большую часть 2019-го я лично пережила через свой телеграм-канал «Философия Нью-Йорка». Эти 12 месяцев прошли на волнах подъема феминистских идей и общего обострения протестных настроений. Всех то подбрасывало, то кидало в пропасть. Я помогала школьникам готовить доклады про Цеткин и Люксембург, пыталась вместе с подписчицами понять, как лучше организовать феминистские ридинг-группы в офисах, возвращала в академию женские имена.
Ощущение, что шевелятся абсолютно все и везде. Понимаю, что это может быть не всем заметно, но общий интерес к радикальной политике растет не по дням, а по часам. За 2010‑е я привыкла быть в маргинальной позиции — существовать внутри узкого круга активистов, художников и философов. К концу десятилетия рассказы про революционную и феминистскую теорию интересуют всех: от ижевских школьниц до детских психологов, от студенток физфаков до врачей и маркетологов. В 2019‑м дали о себе знать русскоязычные эмигранты, которые уехали в течение последних пяти лет по политическим причинам. В июне мы организовали международную кампанию поддержки сестер Хачатурян, к которой присоединились более 20-ти городов: Нью-Йорк, Хельсинки, Барселона, Берлин, Варшава, Торонто и др. Такого масштаба феминистской акции на моей памяти еще не было.
Пока в России и за ее пределами вырастала новая протестная волна, в США неожиданно заговорили о социализме — том самом явлении, которое было под запретом со времен холодной войны. Громкое мировое возвращение социализма и социалистического феминизма — пожалуй, самые важные итоги 2010‑х. Еще пару лет назад я и подумать не могла, что вокруг социалистической идентичности может подняться такой хайп. Началась какая-то новая эпоха. Идешь за кофе — встречаешь социалистов, спускаешься в метро — там тоже они, главный кандидат в президенты от демократической партии — и тот социалист. Проблема этой новой эры, правда, заключается в том, что пока слово «социализм» обладает исключительно негативным смыслом — то есть не означает никакой конкретной политической программы, а только отражает общее несогласие со статус-кво. Основная задача на следующую декаду — разобраться в том, какие бывают и могут быть социализмы, и всем вместе потребовать настоящий.
В мире искусства произошло что-то вроде феминистской революции. 2010‑е начались с кульминации яростного арт-активизма и точных исследований, оформленных в арт-объекты. Десять лет назад все обсуждали политические провокации Артура Жмиевского, брутальные жесты группы «Война», дела Pussy Riot и Петра Павленского, долго всматривались в концептуальные архивы Кристиана Болтански. К концу декады фокус внимания арт-мира сместился на феминистские темы тел и природы. На место отстраненной критической меланхолии пришли попытки вылепить домашние формы будущего. Последние четыре года все крупные музеи современного искусства от Нью-Йорка до Варшавы старательно вписывают в арт-историю женские имена, организуя большие ретроспективы Луиз Буржуа, Сары Лукас, Доры Маар, Магдалены Абаканович и десятков других забытых художниц XX века. То ли еще будет.
Все очень устали от вечной меланхолии и скептицизма последних двадцати лет. Людям 2019-го хочется уже о чем-то мечтать — видеть хоть какой-то свет в конце туннеля. Именно по этой причине восстал из мертвых забытый жанр политических манифестов, пока все еще в сыром и не очень-то головокружительном виде. Левые философы и политики так долго развивали свои навыки критики, что, кажется, утратили способность вдохновлять. К счастью, не все. Главными героинями года и, наверное, всех 2010‑х для меня стали искренние, честные и остроумные активистки — Грета Тунберг, Александрия Оказио-Кортез, Натали Вин. Главной песней — чилийский феминистский гимн. Главным словом — будущее. Главной книгой — сборник Pleasure Activism о политике и немного эстетике удовольствия и заботы. Главными надеждами — взаимная поддержка и новые искренние 20‑е.
Сергей Бабкин
работник искусства, постоянный автор портала aroundart.org
Неоткрытые территории в компьютерных стратегиях обозначаются маревом. Когда юнит подходит к его границам, марево рассеивается, и проступает ландшафт. Территорию можно занять (и речь совсем не обязательно идет о правах собственности), хотя бы примерно представляя, как она устроена, то есть за счет прозрачности. Кажется, в 2010‑е оказались утеряны как прозрачность, так и территория.
Я начал относительно пристальное наблюдение за местным художественным полем в середине 2010‑х, когда на территории МЭЛЗ толпы (так, по крайней мере, казалось) приходили на открытия в галерею «Электрозавод», Red Square и кураторскую мастерскую «Треугольник», а на «Красном Октябре» функционировал Центр «Красный». К 2020 году из них выжил только переехавший «Электрозавод», а новых проектных пространств, которые регулярно привлекали бы зрителей, пусть и из среды, появилось очень и очень мало. Бывшие промышленные пространства попали в оборот девелоперского рынка, в центре с трудом выживает даже бизнес, не то что некоммерческие инициативы, а культурная жизнь города стала еще больше формироваться всего несколькими институциями и в рамках нового московского урбанизма подверглась гомогенизации. Представить себе поддержку художественных самоорганизованных инициатив со стороны государства и бизнеса (пусть даже и малого, как, кстати, иногда происходит за рубежом) все еще невозможно, — даже, если можно так сказать, еще более невозможно.
Скудость ресурсов как на территории институциональной, так и уж тем более за ее пределами, делает организации (как формальные, так и нет) закрытыми для внешних агентов. Еще во времена существования «Электрозавода» на Электрозаводе выставочный план в галерее был расписан на год вперед, а в Центре «Красный» горизонтальные отношения с согласованием всеми участниками происходящих на их территории проектов иногда ломались, и там проводились события (мне известен по крайней мере один случай), которые затем резко критиковали несогласные с ними участники самоорганизации. Да и в целом программы обладающих своими пространствами самоорганизаций и как-будто-бы-но-не-совсем-коммерческих инициатив, например, галереи ISSMAG (в которой при этом продолжают проводиться весьма интересные проекты) или тусовки вокруг TZVETNIK’а и Money Gallery, все же повторяют социальный круг своих основателей. Теоретически в этом нет ничего страшного, так это устроено, но в текущих условиях такое положение вещей может вызвать вопросы о режиме доступа. Это ни в коем случае не призыв к обладающим территорией самоорганизациям жертвовать цельностью своей программы ради приглашения сторонних агентов (от меня как сотрудника институции это звучало бы как минимум странно), но описание ситуации, которая определяет стратегии поведения участников художественного поля.
Проникнуть на территории институций стало еще сложнее из-за непрозрачных систем принятия решений. А утвержденные проекты могут быть в любой момент отменены из-за реакционных отзывов некоторых анонимных наблюдателей. Редкие инициативы по программному слиянию ресурсов институций и самоорганизаций, например, то, что делала Дарья Серенко в выставочном зале «Пересветов переулок», могут закончиться некрасивым увольнением и потерей очередной площадки. Другие институции предоставляют независимым инициативам территорию или в качестве проклятой доли, как это делал ММoМА с Фестивалем самоорганизации, или превратив самоорганизации в предмет холодного исследования-препарирования, как поступил «Гараж».
В итоге новую территорию новообразовавшиеся сообщества позволить себе не могут, и это влияет на время их существования. Даже выставочные проекты подстраиваются под темпоральность ивента, и выставка длиной в неделю уже не кажется короткой. Кочевье по квартирам, мастерским, дворам и случайным пространствам, ставшее следствием отказа от взаимодействия с бюрократическими машинами в вопросе распределения пространственного ресурса, приводит к интересной мутации практик, а особенности функционирования собственности в нашей стране делают оккупацию «ничейного» пространства моментом фрустрации — но и раз за разом призывают к анализу положения. Может быть, эти условия и заставляют умно расходовать минимальные ресурсы, но как долго можно так продержаться? Нам нужна кооперация — экономическая и символическая: ради возвращения территорий — и их шеринга.
Блиц собирала и редактировала Ольга Белова
Подписывайтесь на наш телеграм-канал: https://teleg.run/spectate_ru