1. Незримый наблюдатель
В многослойных и пестрых, будто построенных на семплировании или в стиле кинематографического микстейпа, фильмах известного меломана Джима Джармуша призраки, призрачность и в целом преследование прошлым настоящего, мертвыми живых — одна из сквозных тем, и не только на более эксплицитном и прямолинейном уровне, как в поздних «Мертвые не умирают» и «Выживут только любовники», но и на более интересном имплицитном уровне ранних фильмов. К примеру, прославленный «Таинственный поезд» (1989) перенасыщен призрачной темой: тут и реальный дух Элвиса, и призраки перекрещивающихся культур (Япония, Италия, Америка), и неумолчные духи культовой музыки. Эти детали скрепляют разрозненное — новеллистическое — повествование, в котором по мрачному, чуть ли не вымершему (почти постапокалиптическому) Мемфису бродят японские и итальянские туристы, американские и афроамериканские бандиты, а также пьяный Джо Страммер из The Clash. Они, эти люди, всё приезжают и уезжают, но призраки прошлого — остаются.
В своей знаменитой книге «Ретромания: Поп-культура в плену собственного прошлого» (речь о ней впереди) музыкальный критик Саймон Рейнольдс утверждает, что главным призраком здесь является сам рок-н-ролл и что Джармуш создает метафору «рок-н-ролла как незримого наблюдателя»1, на которой и стоится вся эта кино-мозаика. «Как и “Таинственный поезд”, более ранние работы Джармуша “Более странно, чем в раю” и “Вне закона” описывали действия, происходящие в легендарных музыкальных столицах Америки: Нью-Йорке и Новом Орлеане соответственно. И время действия в обоих фильмах происходит в некоей сумрачной зоне, которую нельзя отнести к той или иной эпохе: это и не прошлое, и не настоящее. Усиливает этот эффект черно-белый видеоряд, старомодные бытовые приборы, которые периодически появляются в кадре (радио, небольшие черно-белые телевизоры и тому подобное), и несовременная одежда, которую носят герои фильмов (шляпы с круглой плоской тульей, подтяжки и куртки) <…> Когда Джармуш делал “Вне закона”, Новый Орлеан уже превратил свое джазовое наследие в аттракцион для туристов, и режиссеру в полной мере удалось воспользоваться особой атмосферой города, гнетущим чувством повсеместного присутствия прошлого», и далее: «Мемфис, как и Новый Орлеан, погребен под весом собственных мифов и легенд. Именно этим города привлекают людей со всего мира, стремящихся увидеть своими глазами то, чего уже давно нет. В “Таинственном поезде” этих туристов олицетворяет молодая японская пара, которая, сойдя с поезда, направляется прямиком в Sun Records (где гид рассказал им историю компании настолько отрепетированной и быстрой скороговоркой, что они ничего не поняли). Молчаливый парень и его разговорчивая подруга после экскурсии идут по почти безлюдным улицам города, по тротуарам, через трещины которого проросли сорняки. Всем своим видом, аккуратно набриолиненной челкой, сигаретой за ухом и зажигалкой Zippo, японец демонстрирует свою преданность и одержимость образами тридцатилетней давности. Он удивительно похож на молодого Пресли, а его лицо, абсолютно не выражающее эмоций, словно посмертная маска короля рок-н-ролла, как метафора умершего воображения молодежи. Рок-н-ролл превратил их в призраков»2.
♫ Japan — Ghosts ♫
2. В плену собственного прошлого.

Именно призраки — в музыке, в фильмах и, собственно, в жизни — были центральным предметом рефлексии для Марка Фишера, одного из виднейших британских интеллектуалов своего поколения, трагически ушедшего из жизни в январе 2017-го. Достаточно обратится к хорошему ознакомительному тексту Оуэна Хэзерли, чтобы заметить — сферы, в которых Марк Фишер работал почти что с равной силой, и поражают своим размахом, и имеют между собой что-то общее. Он был философом и культурологом, музыкальным и кино-критиком, в равной мере политическим и, скажем, спортивным аналитиком. Он был популярным блогером (его блог k‑punk существовал с 2003 года), вообще одним из пионеров позднее повального хождения философов в блогосферу. Он был одним из участников легендарной исследовательской группы CCRU (Cybernetic Culture Research Unit), прославленной именами Сэди Плант и Ника Ланда. Он был и сооснователем издательства Zero Books, выпускавшего множество ярких критических книг, включая и самую известную фишеровскую работу 2009 года — «Капиталистический Реализм: Альтернативы нет?», после которой он, по словам того же Хэзерли, стал «своего рода культовой личностью» и «величайшим английским критиком своего поколения». Не в последнюю очередь, Фишер был исследователем феномена депрессии, с которой он сам боролся всю жизнь, видимо, понимая, что обречен проиграть. Посмертно была выпущена монументальная фишеровская книга, озаглавленная по названию его блога — K‑Punk, где были собраны почти все главные тексты философа. В плане дичайшего разнообразия тем сборник более чем представителен: здесь философия и политика, в еще большей мере — поп-культура, музыка, кино, телевидение (Фишер писал также и телекритику, обозревая такие сериалы, как «Мир Дикого Запада», «Во все тяжкие», «Американцы», «Жизнь на Марсе»). Представлена в сборнике и беседа с уже упомянутым Саймоном Рейнольдсом (под заголовком You Remind Me of Gold3), и, в самом конце, предисловие к задуманной, но так и не осуществленной работе про «кислотный коммунизм» (Acid Communism).
Исполненный Оуэном Хэзерли, одно время его близким другом, портрет Марка Фишера отличается живостью, которая задается динамикой противоречий. Они и не могли не разрывать человека, могущего оценить сразу и Жижека («помню, как Марк всегда сидел в первом ряду на его мастер-классах в Лондонском университете в 2008 году, как он всегда первым задавал вопрос»), и Ницше (фигуру, «казалось бы, неспособную заинтересовать человека, записавшего себя в “коммунисты”», однако «для Марка Ницше был важен как “аристократ”; на основе ницшевских идей Марк пытался сформулировать идею своего рода “пролетарской” аристократии, тогда как “стадом”, о котором говорит философ [Ницше. — Д. Х.], оказывалась именно элита — привилегированный класс политиков и медиа-персонажей»). Видимое противоречие, снимаемое в причудливом концепте «пролетарской аристократии», отличает мышление большой силы и широкого охвата: не любивший догматических ограничений, хоть и формально причисляющий себя к «левым», Фишер всегда находился в поиске более плодотворного синтеза, на который косные идеологии никогда не были способны. Собственно, этим живым поиском большего, дальнейшего, просто другого и отличается фишеровская претензия к современному капитализму, главным пороком которого оказывается именно безальтернативность, схваченная в формуле «легче вообразить конец света, чем конец капитализма» (вспомним тут Маргарет Тэтчер, правление которой пришлось на молодость Фишера, с ее прозвищем TINA, что расшифровывалось как there is no alternative).
Безальтернативный капиталистический реализм — это диагноз нашего времени. Впрочем, на критике тэтчеризма как такового Фишер надолго не задерживается, он спешит углубиться в область популярной культуры, где безальтернативность капитализма рифмуется (если не совпадает) с всеядным понятием постмодернизма: «То, что я называю капиталистическим реализмом, можно подвести под категорию постмодернизма в той теоретической версии, которая была предложена Джеймисоном»4. Верный себе, Фишер спешит перевести теоретическое описание некоторого феномена — в данном случае капиталистического реализма — на его поп-культурное описание, поэтому тут же он пишет, например, следующее: «Пределы капитализма не заданы указом, они определяются (и переопределяются) прагматически, в импровизации. В результате капитализм оказывается чем-то весьма похожим на “Нечто” Джона Карпентера, на монструозное, чрезвычайно пластичное существо, способное поддерживать свой метаболизм в чем угодно и поглощать всё, с чем оно соприкасается»5. И в самом деле, пример из популярного фильма ужасов оказывается сильнее, доходчивее иного экономического анализа.
Впрочем, скорей не кино, а музыка стала приоритетной, излюбленной темой для Фишера. Мало кто умел писать о музыке так же, как он — одновременно страстно и точно, размашисто и умно — и как раз сегодня, когда поток усредненной музыкальной журналистики несется с невыносимым напором, особенно остро ощущается отсутствие музыкального критика такой силы. В его поле зрения самая разная музыка, но прежде всего инновационная поп-музыка его юности — к примеру, пост-панк, Joy Division, любимая группа Фишера The Fall, — словом, та музыкальная поп-культура, что существовала до постмодернизма, до капиталистического реализма и до тэтчеровского объявления безальтернативности рынка. Иными словами, вся она — в прошлом. Фишер, нашедший в данном проблемном поле хорошее применение для своего парадоксального «народного/пролетарского модернизма», определяет такую поп-музыку прошлого как «модернистскую популярную культуру». Она была определенно модернистской в том смысле, что создавала ощущение неумолимого движения вперед и постоянно создавала нечто экспериментальное — в чем можно легко убедиться, к примеру, прослушав треки с непростого для восприятия альбома Hex Enduction Hour тех же The Fall6. Принципиальный тезис «пролетарского ницшеанца» (или, как он сам говорил в полу-шутку, «тори из рабочих»): поп-песня может быть столь же влиятельной, сложной и умной, как и любая другая вещь. И вот такая поп-песня, по Фишеру, — главный враг как для капиталистического реализма, так и для обволакивающей его постмодернистской (псевдо-)культуры.
Однако сегодня, во времена, когда жесткая логика постмодерна вытесняет даже саму идею инновации, та модернистская поп-культура, которую так кропотливо реконструирует Фишер, может существовать только призрачно — как нечто, некогда бывшее, ныне отсутствующее, но в то же время парадоксально присутствующее на уровне томительных воспоминаний и, конечно, желаний и ожиданий — того, чтобы всё снова стало возможно. Именно эта призрачность инновационной культуры прошлого и есть та общая тема, которая связывает якобы слишком разрозненные объекты фишеровского мышления: музыку и кино, телевидение и политику, философию и футбол. Все они полны призраков. А раз так, то нет лучшего вхождения в критическое наследие Марка Фишера, нежели главная его «призрачная книга» — сборник «Призраки моей жизни», недавно опубликованный на русском языке7.
Тексты, входящие в этот сборник, все на свой лад изучают феномен великой потерянной поп-культуры, которая некогда, в славные-времена-до-постмодерна, обещала Утопию, ныне же существует разве что в качестве предмета для ностальгии, для ретромании. Это последнее слово — «ретромания» — ввел как раз Саймон Рейнольдс8, очень близкий к Фишеру автор. Они — представители одного поколения и носители примерно одной системы ценностей: начиная свой профессиональный путь автором в Melody Maker, Рейнольдс в какой-то момент превратился в одного из самых влиятельных музыкальных журналистов в мире, сотрудничал с Rolling Stone, Spin, The Wire, написал авторитетные книги о рейве, пост-панке и, прежде всего, о ностальгическом бытовании современной поп-культуры, которое связывал со своей собственной тоской по прошлому и одновременно (невозможному) будущему. Эту книгу — «Ретромания. Поп-культура в плену собственного прошлого» — я предлагаю читать вместе с фишеровскими «Призраками моей жизни»: книги ссылаются друг на друга и во многом друг друга дополняют, если не проясняют, к тому же они используют схожую, а часто и совпадающую систему понятий. К главному из которых мы прямо сейчас и переходим.
♫ Boards of Canada — Telephasic Workshop ♫
3. Там, где бродит призрак
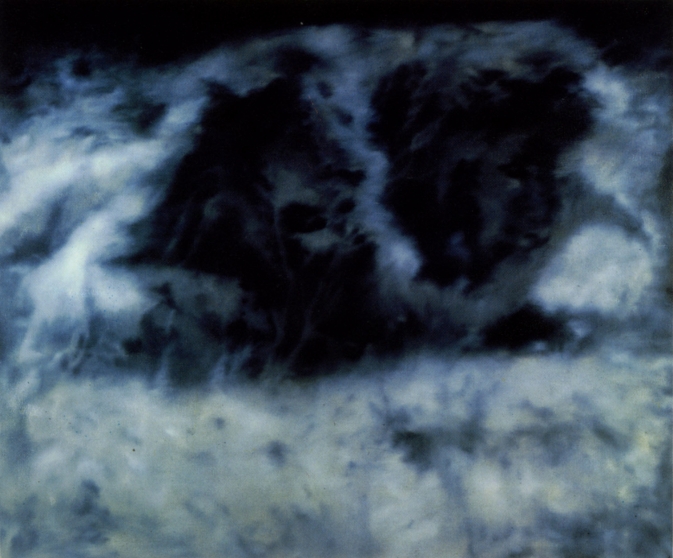
И Фишер, и Рейнольдс9 в своих книгах активно используют термин Жака Деррида «хонтология»10 (hauntology = haunt + ontology, встречаются переводы «призракология», «призракологика»11), который тот придумал для описания странного, призрачного положения марксистского наследия в современном — вроде бы уже постмарксистском — мире. Однако ни Фишеру, ни Рейнольдсу призрак самого Карла Маркса особенно не интересен, настолько они погружены в аллюзивно-хонтологический анализ популярной культуры своего времени. Опрокинутая на поп-культуру, хонтология пытается показать, как призраки (или следы, или остаточные образы) прошлого функционируют в песнях и фильмах настоящего, одновременно фундируя их и блокируя их внутренние возможности к изменениям.
Сам Фишер обозначает основной тезис своей книги так: культура XXI века находится в застое, который «скрыт под поверхностным слоем остервенелой тяги к “новизне”, заслонен иллюзией беспрестанного движения»12, и «нигде это не проявляется более ярко, чем в области популярной музыки»13; «Если культура ХХ века была охвачена лихорадкой экспериментов с формой, отчего возможности создания нового казались неиссякаемыми, то над XXI веком тяготеет гнетущее чувство конечности и опустошения. В нем не ощущается будущее. Или можно сказать, не чувствуется, что XXI век уже настал. Мы застряли в ХХ веке…»14 Основная оппозиция хонтологического анализа популярной культуры, таким образом, проходит между постмодернизмом 70‑х (и после) и более ранним послевоенным «популярным модернизмом», который был выстроен на утопическом импульсе непрестанного экспериментирования, изменения и обновления.
Собственно, хонтологической музыкой Фишер называет те образцы современной ему поп-культуры, которые одновременно погружены в ностальгию по тем экспериментальным формам искусства и сильно фрустрированы невозможностью повторить этот глубоко модернистский импульс сегодня. «В хонтологической музыке красной нитью сквозит не высказанная прямо мысль, что надежды, которые вселяла послевоенная электронная музыка или эйфорическая танцевальная музыка 1990‑х, испарились: будущее не просто не наступило — теперь оно уже не кажется возможным. Но в то же время эта музыка знаменует отказ ставить крест на мечте о будущем. Этот отказ придает меланхолии политическую окраску, так как он означает нежелание примириться с закрытыми горизонтами капиталистического реализма»15. Констатируя исчезновение целой тенденции в современной культуре — а именно того самого популярного модернизма, о котором речь шла выше, Фишер анализирует творчество очень разных исполнителей — от группы Japan с альбомом Tin Drum, который он склонен скорее ругать16 (что не мешает ему заимствовать строчку из песни Ghosts и ставить ее ни много ни мало в название своего сборника) до Tricky с альбомом Maxinquaye, который он склонен скорее хвалить — с точки зрения этого подчеркнуто амбивалентного отношения к исчезнувшему популярному модернизму.
Эта амбивалентность лучше всего объясняется не через оппозицию любви/ненависти, но, скорее, подражания/освобождения: если хонтологические музыканты и пытаются подражать прошлому, то прежде всего в желании быть, как встарь, по-настоящему инновационными. Пытаясь схватить сложную двойственность этой тенденции, Рейнольдс, в свою очередь, пишет: «Все, кто так или иначе создает нечто нетрадиционное и ломающее стереотипы — это люди, оказавшиеся в заложниках у прошлого. В социологическом смысле — это всё тот же передовой класс, но вместо того чтобы становиться пионерами и новаторами, они становятся кураторами и архивариусами. Авангард превратился в арьергард»17. Несмотря на кажущийся пессимизм, эта формулировка богаче, ведь в ней схватывается противоречие: «заложники прошлого», арьергард — в то же самое время умудряются создавать «нечто нетрадиционное и ломающее стереотипы», то есть они же оказываются и людьми будущего, авангардом. Нам, таким образом, требуется усилие, чтобы помыслить арьергард и авангард одновременно — это и будет тот самый хонтологический (музыкальный) феномен, который описывают Рейнольдс и Фишер.
Нас не должно удивлять, что оба автора исследуют наиболее близкую (и интересную) им британскую культуру, ведь память, вещь очень локализированная, у всех своя. Так, заводя речь о термине «хонтология», антрополог Ольга Дренда пишет: «Его использовал один из моих любимых теоретиков, Марк Фишер, а склонный систематизировать новые жанры музыки Саймон Рейнольдс (который в конечном итоге напишет целую книгу о вечном возвращении ретростилистики) связал идею хонтологии с музыкой таких исполнителей, как Boards of Canada, Broadcast, или авторов британского рекорд-лейбла Ghost Box. Последние сделались синонимом целого направления — с конвертами пластинок, стилизованными под обложки книг издательства Penguin, отсылающими к британским фантастическим сериалам для детей и фильмам, которые предупреждали об опасностях у воды или на дороге; чарующим эзотеричным фольклором, существующим в Великобритании с шестидесятых годов, — они ловко подхватывали то, что появлялось на стыке страха и идиллии, в условиях государства-опекуна и холодной войны»18. Самое интересное, что по следам англоцентричной хонтологии Фишера и Рейнольдса сама Дренда создает увлекательное повествование о своей собственной, польской хонтологии, тем самым доказывая, что, всматриваясь в чужих призраков, мы в то же время обретаем возможность изучать своих собственных — наверное, потому, что любой призрак по своей сути является чужим для всех нас.
Поэтому пристального внимания заслуживают все музыканты, упоминаемые Фишером и Рейнольдсом в их работах: Уильям Басински и Филип Джек, Boards of Canada и The Caretaker, Burial и Positional Normal, лейблы Ghost Box и Mordant Music, или (близкие) американские аналоги британской хонтологии вроде Девендры Банхарта и Джоанны Ньюсом, (полный список огромен, поэтому отсылаю за ним к книгам авторов). Что общего у всех этих артистов? Прежде всего то, что ностальгия по прошлому соединяется в их творчестве с ностальгией по будущему, неостальгией: прошлое — не то место, в котором они хотели бы навсегда раствориться, но, скорее, лишь тот источник, в котором они черпают вдохновение для рискованного шага в неизвестность. Поэтому «хонтологический пантеон» Фишера и Рейнольдса является чем угодно, только не постмодернизмом в его расхожем, преимущественно негативном (как запрет и препятствие) понимании. Напротив, артисты-хонтологи как раз и противостоят ленивой всеядности капиталистического реализма. Они, как пишет Рейнольдс, оборачиваются, «чтобы взглянуть вперед»19. В данном случае память перестает быть тюрьмой и становится средством освобождения — в полном соответствии с тем, что Жак Деррида вкладывал в свой неологизм: хонтология как бытование того, чего (вроде бы) нет, но что отсылает нас как в прошлое (которого уже нет), так и в будущее (которого еще нет). Фиксируя «двойное направление хонтологии — компульсивное повторение прошлого и предвосхищение будущего»20, Кэти Шоу в своей книге Hauntology (к слову, открывающейся посвящением Марку Фишеру, «исследователю будущего») справедливо отмечает: «Призраки глубоко социальны — они действуют, чтобы подчеркнуть потенциалы будущего и, в свою очередь, требуют действий и решений от живых»21.
♫ Tricky — Overcome ♫
4. Memoire involontaire

Хонтологическая перспектива, привлекающая мотивы ностальгии и ретроспекции, связывает искусство — в данном случае музыку, но в пределе, конечно, не только ее — с междисциплинарной проблематикой памяти. Интуитивно понятно, что искусство работает со слотами памяти, — каждое на свой неповторимый лад. Такая работа искусства, к примеру, — один из центральных предметов Марселя Пруста, который помимо широко известного сюжета с пирожным «мадлен» (вкус, запах, которые стимулируют воспоминания) писал о локализации памяти в живописи (большим знатоком которой был прустовский персонаж Сван) и о музыке — вспомним фразу из сонаты Вентейля, воздействующую на Свана почти так же, как и «мадлен» на самого Марселя, тем самым не уступая пресловутому пирожному в способности разворачивать из себя миры памяти, этакое аудиальное Комбре, сокрытое в повседневности и обнаружимое лишь при соприкосновении с определенными предметами искусства.
Пруст называл эту сцепку искусства и ретроспекции «непроизвольной памятью» (memoire involontaire), более того, он — сошлюсь здесь на знатока Пруста Юзефа Чапского — «не раз подчеркивал, что только непроизвольная память имеет значение в искусстве»22. Поэтому неудивительно, что свойства «мадлен» и «фразы Вентейля», то есть свойства всех этих «знаковых триггеров, которые внезапно и резко отсылают вас в прошлое»23, не ускользают от Фишера и Рейнольдса в их музыкальном и, шире, культурологическом анализе. Работа «непроизвольной памяти» здесь — само собой разумеющийся аналитический инструмент, ведь, как пишет Рейнольдс, «музыка традиционно рассматривается как звуковое сопровождение к нашей жизни: любимая песня как напоминание, импульс Пруста, который отправляет вас в путешествие по блаженству воспоминаний»24. Следовательно, говорить о музыке, минуя некую «ретроактивность» ее восприятия, не получится. А если так, то хонтология и ретромания — не просто случайные темы внутри широкого поля музыкальных исследований, скорей, это их главная тема, раскрывающая одно из важнейших (с историко-культурной точки зрения) свойств музыкального искусства и его социального потребления.
Насколько здесь специфична именно музыка — вопрос непростой и, вероятно, спорный. Сам Фишер, к примеру, почти в том же прустовском духе использует кинематограф — не только свои излюбленные (и мало нам всем знакомые) британские сериалы его юности («Шпион, выйди вон!», «Сапфир и Сталь»), но также и классику мирового кино, как, скажем, «Сталкер» Тарковского. Самую, вероятно, известную сцену оттуда — «где камера медленно проплывает над культурно значимыми предметами, вышедшими в утиль»25 — Фишер в «Призраках моей жизни» вспоминает неоднократно. «Вот почему та (прекрасно, мучительно) затянутая сцена в “Сталкере” Тарковского, — пишет он, — когда камера медленно проплывает над знаковыми, некогда полными смысла предметами, которые ныне просто плавают в воде, — это наиболее трогательная для меня сцена во всем кинематографе. Мы будто смотрим на насущные проблемы собственной жизни глазами бога-инопланетянина»26. Однако и этот более чем яркий кино-пример служит подспорьем для дальнейшего разговора именно о музыке, а не наоборот. Задумаемся о том, что статус преимущественного места памяти искусству обеспечивает его сущностная аллюзивность и метафоричность: искусство — это косвенный и непрямой язык, называющий вещь (скажем, вещь памяти) не непосредственно, но опосредованно, через какое-то третье формообразование. И, так как основным свойством памяти можно считать не-явленность и не-данность — то есть собственно призрачность и хонтологичность — ее предметов, то мы можем предположить, что наилучшим образом с ролью идеального места памяти справилось бы то искусство, которое по максимуму избавлено от иллюзии данности, явленности и репрезентации. Отсюда легко прийти к выводу, что таким искусством по преимуществу будет музыка — в противоположность письму и изображению, этим исконно репрезентативистским искусствам (что непрестанно оспаривается существующими внутри этих искусств авангардами, но всегда с очень относительным успехом).
Музыка — идеальное место памяти, потому что оно в высшей степени избавлено от репрезентации. Как и сама память, что хорошо понимал Пруст, неизменно раскалывающий всякую иллюзию репрезентации, представляя «реальную» вещь лишь аллюзией и подобием подлинной жизни, в разрывах реальности проглядывающей из «обретенного времени» чистого воспоминания. Реальное Пруста — это, как ни парадоксально, в высшей степени не-данное, то есть призрачное, что объединяет прустовскую непроизвольную память с хонтологией Деррида и далее Фишера/Рейнольдса. Описывая реальное во всей его материальности (звуки сонаты, вкус печенья, неровная плитка во дворе Германтов — известнейшие прустовские примеры), мы неизбежно соскальзываем в хонтологическую не-данность, которая это реальное и объемлет. Вещественность существования буквально заряжена не-присутствием потустороннего, которое — не праздная иллюзия, но странное бытование истины всех вещей и событий. Именно это и позволяет Фишеру срифмовать корень haunt в хонтологии с известным психоаналитическим понятием unheimlich: «Слово “haunt” со всеми его производными, пожалуй, является в английском языке одним из ближайших эквивалентов немецкого понятия “unheimlich”, богатство коннотаций и этимологических отголосков которого Фрейд подробно разъяснил в своей знаменитой статье “Жуткое”. Подобно тому, как немецкий язык позволяет превратить близкое (нем. das Heimliche) в его противоположность, жуткое (нем. das Unheimliche) (Фрейд), так и английское слово “haunt” означает одновременно и часто посещаемое место, прибежище, и то, что нарушает покой этого места, заявляясь туда. Оксфордский словарь английского языка в качестве одного из самых ранних толкований глагола “haunt” приводит “предоставить кров, дом”»27. Поистине: «дом там, где бродит призрак». Хонтологическое искусство, подобное старым историям о привидениях, жутко и неуютно именно тем, что оно наполняет наш дом — нашу память, само основание нашей идентичности — непрошенными гостями утерянных смыслов. Пожалуй, главной добродетелью хонтологического искусства, и музыки в первую очередь, оказывается интенция на диалог с этими странными чужаками, тогда как попытки запросто отмахнуться от привидений, редуцировав их до «наивного», «детского» предрассудка, не только обречены на провал, но и способны пронизать культуру вирусом исторического бесплодия.
♫ Position Normal — German ♫
5. Фоновый треск и голоса мертвых

Указанную добродетель Фишер находит в творчестве описываемых им хонтологических музыкантов: «По своему воздействию релизы Ghost Box (где изображения являются неотъемлемой составляющей наравне со звуком) — абсолютная инверсия постмодернизма с его раздражающим градом цитат. Постмодернизм характеризуется выкорчевыванием всего жуткого (нем. unheimlich): волнение перед лицом неизвестности в нем заменяется чванливым всезнайством и гипервосприятием. Ghost Box же, напротив, есть союз полузабытого, смутно-памятного и вымышленного»28. Там, где постмодернизм пытается заговорить призраков, сводя их к необязательным выдумкам и топя их в потоке цитат, хонтологические музыканты выстраивают с призраками серьезные отношения, по-прустовски подчиняя саму материальность, вещественность музыкального полотна целям работы непроизвольной памяти.
Всё это, конечно, не делает материальность, вещественность музыки чем-то всецело случайным и подчиненным капризу некоего незримого и «идеального» потока внутренней жизни сознания. Обратим внимание, что триггером для непроизвольной памяти у Пруста всегда, обязательно служит какая-то вещь: плитка, печенье и звуки. Без вещи сознание, будучи сущностно интенциональным, попросту не существует — что верно, само собой, и для феноменов непроизвольной памяти. Поэтому тексты Фишера и Рейнольдса тщательно выявляют вещественные элементы музыки, которые позволяют слушателю испытать прустовский «истинностный» эффект. Таких элементов великое множество, и мы ограничимся некоторыми из них. К примеру, «фоновый треск, — как пишет Фишер, — одновременно отсылает нас к прошлому и указывает на нашу от него удаленность — разрушает иллюзию соприсутствия с воспроизводимой музыкой, напоминая, что мы слушаем запись. Сегодня потрескивание символизирует целую исчезнувшую модальность материальности: осязаемую телесность, утраченную нами в век, когда источники звука сокрыты от чувственного восприятия»29. Хорошим примером здесь служит ценимый Фишером Burial, регулярно выводящий «на первый план нечаянные проявления материальной природы звука»30 (к примеру, см. трек Distant Lights с дебютного альбома 2006 года).
Другой пример — это семплирование. Обнаруживая его сходство с искусством фотографии «в части кадрирования и масштабирования» и отмечая, что «при семплировании деталь, на которой акцентируют внимание, и сам процесс “масштабирования” носит не пространственный, а временной характер», Рейнольдс пишет: «Момент, который в потоке музыкального произведения может остаться незамеченным, фиксируется и растягивается во времени, позволяя слуху задержаться на нем, задержаться в нем»31. Таким образом, через работу с семплами мы получаем не просто своеобразный аналог машины времени, который позволяет нам путешествовать по звуковым волнам прошлого и как угодно играть, растягивая их или сжимая, с его нашинкованными фрагментами, но также создаем этакий музыкальный портал, через который призраки прошлого в несметных количествах попадают в настоящее — что, собственно, очень чувствуется в лучших образцах построенной на семплировании музыки. В конечном итоге мы можем пойти еще дальше и назвать хонтологической саму технологию звукозаписи, которая и без всяких диджейских уловок дает нам возможность почти безграничного общения с призраками: «Разумеется, звукозапись приучила нас жить бок о бок с призраками, будь это Карузо или Кобейн. В некотором смысле, запись — это самый настоящий призрак, ведь она несет в себе следы физической жизнедеятельности музыканта, отголоски его дыхания и напряжения. Есть явная параллель между фонографией и фотографией: результатом в обоих случаях является посмертная маска реальности»32 — как, например, в призрачном треке German группы Position Normal (которую, по словам Фишера, Рейнольдс однажды назвал «крестными отцами хонтологии»33).
Еще одним примером может служить распространенная ностальгия по устаревшим, винтажным музыкальным носителям — прежде всего на ум приходит мода на винил и, что более неожиданно, на аудиокассеты. «Кассеты можно считать хонтологическим форматом по целому ряду причин, — пишет Рейнольдс. — Во-первых, как скретчинг и поверхностный шум виниловой пластинки, шипение пленки беспрестанно напоминает вам, что вы слышите запись. Во-вторых, кассеты — это призраки масскульта, в том смысле, что популярная культура уже объявила об их смерти и окрестила досадным пережитком прошлого»34. Хотя мы можем не относиться к подобной моде всерьез, стоит признать, что и всеобщая цифровизация музыки не устранила, но в известной мере упростила игру с подобным хонтологическим измерением звукозаписи. По Фишеру, «львиная доля музыкальной хонтологии базируется на различии аналоговых и цифровых носителей: множество хонтологических аудиозаписей стремятся воссоздать материальность аналоговых медиа в эпоху цифрового эфира»35. В каком-то смысле цифровой мир вовсе не вытеснил мир аналоговый, но, наоборот, перенасытил аналоговым звучанием современную музыкальную (ретро-)культуру.
Фоновый шум, семплирование, призрачная реверберация36, даже сама звукозапись — особенно в преломлении ее исторических несовершенств и дефектов, в ее, как выражается Рейнольдс, «фантасмагорических аспектах»37 — очерчивают ту сферу технически-вещественного, через которую нам раскрывается хонтология музыки, настраивающая наше сознание на странные (weird) и неуютные (uncheimlich) эффекты непроизвольной памяти. Пытаясь извлечь максимальный потенциал из этих эффектов, хонтологи-музыканты погружены в своеобразный магический ритуал по призванию духов, успешным результатом которого можно признать максимальное насыщение настоящего аудиальным присутствием прошлого — в семплах и фоновом треске, в искусственном «застаривании» треков и в моде на позавчерашние носители с их хорошо узнаваемой звуковой фактурой. Используя более приземленную метафору, нежели образ ритуала, Рейнольдс пишет: «Виртуозные мусорщики, хонтологи перерывали прилавки благотворительных магазинов, уличных рынков и восхитительные развалы клочков увядающей культурной материи. Их музыка, как правило, является смешением цифрового и аналогового звучания: семплы и компьютерные наработки смешаны со звуками древних синтезаторов и акустических инструментов. Мотивы, навеянные и просто украденные их архивных записей и саундтреков (особенно пользовались спросом примитивные жанры — научная фантастика и ужасы), сплетены воедино с индустриальным грохотом и абстрактными шумами. Всё это зачастую венчают атрибуты конкретной музыки и отзвуки радиовещания — разговорная речь и белый шум»38 (см., например, насыщенный многослойными голосовыми семплами трек Telephasic Workshop группы Boards of Canada — по Рейнольдсу, «главных протагонистов британской хонтологии»39).
Обрамляющая все приведенные выше примеры, метафора Рейнольдса о «хонтологах-мусорщиках» не должна вводить нас в заблуждение своей кажущейся пейоративностью. Едва ли в наши времена имеет смысл недооценивать важность взаимодействия с мусором — его собирание, сортировку и, главное, переработку. Творческий или, по Рейнольдсу, «виртуозный» подход к этой проблеме никак не замусоривает нашу жизнь — даже в такой якобы идеалистической области, как музыка — но, напротив, дает нам возможность не быть заваленными мусором в отрицательном смысле, то есть чем-то, что уже ничего не значит и ни к чему не ведет, просто валяясь вокруг и отравляя окружающую среду. В противоположность подобному — опять-таки, в дурном смысле — постмодернистскому подходу к культурным реликтам, артисты-хонтологи Рейнольдса/Фишера не копошатся в помойках и не коллекционируют хлам, но лишь внимательно всматриваются в материальное бытование прошлого с целью вернуть в настоящее когда-то потерянное и теперь — через техническую работу — заново обретенное время.
♫ Burial — Distant Lights ♫
6. Overlook

Одна из ведущих отсылок в хонтологической одиссее Марка Фишера — несмотря на то, что «хонтологии свойственно звуковое измерение»40 — это «Сияние», причем скорее фильм Кубрика, чем роман Кинга. На самом деле странного в этом мало: во-первых, кино — синтетическое искусство, которое может выстраиваться на звуковом «нарративе» не меньше, чем на визуальном ряде или сценарной подкладке, а во-вторых, в «Сиянии», если смотреть фильм глазами Фишера, самые главные сцены построены на музыкальной (Золотой зал отеля «Оверлук») и чуть ли не «танцевальной» доминанте (погоня). Фильм, таким образом, идеально отыгрывает хонтологию своей музыкальной основы как по форме, так и по содержанию. К тому же музыкальное измерение «Сияния» было отдельно обыграно хонтологическим проектом The Caretaker — неслучайно тексты о нем и о фильме Кубрика следуют в сборнике Фишера друг за другом: «Идея альбома The Caretaker “Memories from the Haunted Ballroom” проста и гениальна: целый альбом песен, которые могли бы играть в Золотом зале отеля “Оверлук” из “Сияния”»41. Подобная, в высшей степени тревожная и пугающая, музыка не оставляет сомнений в том, что — как минимум через понятие uncheimlich — существует естественная связь между музыкальной хонтологией и жанром хоррора.
Джек Торренс (его играет Джек Николсон), бывший учитель, устраивается на работу смотрителем в огромный отель «Оверлук». Он с семьей должен следить за отелем зимой, когда отель закрыт и в нем никого больше нет. Стремительно погружаясь в атмосферу зловещего одиночества, Джек сходит с ума и начинает преследовать жену и своего маленького сына с пожарным топором наперевес. Вместе с тем выясняется, что всё происходящее с Джеком далеко не случайно — в прошлом с ним уже происходили вспышки агрессии, он выпивал и, видимо, бил сына. Злой Джек — это призрак из прошлого, который преследует Джека с его несчастной семьей в настоящем, тогда как отель «Оверлук» — идеальный портал для пришествия призраков в наше сегодня. Схваченная в такой перспективе, суть фильма в том, что прошлое — воплотившееся в целый отель — захватывает настоящее и угрожает будущему. Однако подобная краткая выжимка «смысла» нам мало что скажет о хонтологии, если мы вслед за Фишером не присмотримся к деталям (вспомним: к вещам, к материальному), чтобы увидеть, как именно они работают — то есть как именно общую (и довольно нехитрую) идею фильма реализуют, к примеру, ретро-музыка, служащая лейтмотивом сюжета — настолько, что это позволяет современным музыкантам (вот еще один виток хонтологического клубка) создавать целые альбомы по мотивам звукового ландшафта «Сияния», — или архитектура отеля, которая сама по себе устроена как путешествие во времени и как погружение в историю.
На уровне этих деталей в «Сиянии» прошлое пожирает будущее, и в самом конце мы видим старую черно-белую фотографию из далеких 1920‑х, на которой запечатлен «настоящий» Джек Торренс — тот самый призрак, в образе Джека из настоящего пришедший за жертвами, женой и сыном. В итоге фильм заплетается в сложный узел из разных времен: перенасыщенный ретро, отель вытесняет сегодняшний день, Джек из прошлого настигает Джека из настоящего, тогда как Джек из настоящего гоняется за своим сыном Дэнни — что тоже, как замечает Фишер, есть своего рода неотвратимый рок — судьба Дэнни в том, чтобы стать Джеком, и его победа над отцом (о чем вам скажет любой психоаналитик) лишь временна. Отец всегда возвращается. Фишер задается вопросом: «А как Дэнни спасается от Джека? Шагая по следам отца в обратном направлении»42. Мы всегда двигаемся только назад — что верно как для индивида, так и для общества в целом. Как замечает Фредрик Джеймисон в статье «Историзм в “Сиянии”» (на нее неоднократно ссылается Фишер), «Джек Николсон в “Сиянии” одержим не злом как таковым, не “дьяволом” или подобной оккультной силой, но, скорее, просто Историей, американским прошлым, поскольку его следы остались в коридорах и отдельных многокомнатных номерах этого монументального крольчатника, который причудливо отбрасывает свою пустую, формальную тень на лабиринт двора»43.
В этой связи интересно подумать о том, о чем Фишер еще не мог знать — я имею в виду фильм «Доктор Сон», сиквел «Сияния», вышедший в 2019 году, то есть уже после смерти автора «Призраков моей жизни». Точно по Фишеру, всё начинается неутешительно: Дэнни Торренс вырос потасканным пьяницей, которого, разумеется, мучают призраки прошлого в виде ночных кошмаров, и он заглушает эти кошмары наркотиками и алкоголем. Сценарий на этот раз строится на «сиянии» (то есть на телепатии), которое в фильме Кубрика тоже присутствовало, но было отодвинуто на задний план (как замечает тот же Джеймисон, «телепатия в “Сиянии” — ложный ход»44). Дэнни владеет «сиянием», однако не он один. В «Докторе Сне» появляется группа этаких телепатов-вампиров, которые ищут других телепатов и поглощают — буквально — их телепатический талант, комично выкуривая их «сияние» как некий прущий дымок. По сюжету эти вампиры охотятся за маленькой девочкой-телепаткой, тогда как Дэнни пытается ее спасти. И когда ближе к концу фильма Дэнни с девочкой куда-то едут, зритель обнаруживает нарастающее чувство ностальгии. Герои — и зрители — возвращаются в «Оверлук». И снова точь-в-точь по Фишеру, создатели фильма — наверное, бессознательно — выстраивают хонтологическую перспективу, покадрово переснимая главные сцены из первого фильма, тем самым подчеркивая бессилие современного кинематографа устоять перед мощными образами классических фильмов (эту беспомощность особо подчеркивает нелепая компьютерная кровь в знаменитой сцене с лифтом). Фильм превращается в оргию ностальгии, пытаясь скопировать и заново пережить первые впечатления от великого кубриковского фильма. Однако и это можно прочитать двояко: с одной стороны, как торжество вампирического постмодернизма и/или капиталистического реализма, с другой стороны, как наивную попытку вернуть потерянную утопию модернизма. Своей детской наивностью «Доктор Сон» отличается от «Сияния», но именно ей он подчеркивает важные — для фишеровского прочтения — стороны фильма. В конце сиквела девочка-телепат спасается от преследователей, а страшный отель «Оверлук», эта обитель жестоких призраков прошлого, наконец-то сгорает (как, кстати, и в оригинальном «Сиянии» Стивена Кинга). В чрезмерно сентиментальном финальном наставлении Дэнни Торренс говорит своей спутнице: «Сияй!» Иными словами: храни свой талант, береги свою творческую энергию, свое естественное стремление к новому — то есть пестуй свою собственную Утопию.
Нужно иметь в виду, что именно такой Утопией и был столь ценимый Фишером послевоенный «популярный модернизм», одним из выдающихся образцов которого было «Сияние» Кубрика (хотя фильм и вышел в «постмодернистском» 1980‑м). Так, в одном тексте Фишер пишет: «На самом деле “Сияние” предвосхищает многие проблемы, которые снова стали актуальными в XXI веке, когда мы обратились к призракологии. В фильме призракология преподносится в самом общем смысле — как свойство (не)обладания, присущее человеческому существованию как таковому, как способ, с помощью которого прошлое использует нас, чтобы повторить себя. <…> Стоит также помнить, что работа Кубрика, наряду с творчеством таких современников, как Коппола и Скорсезе, была частью народного модернизма в американском кино, который, достигнув пика в 1970‑е годы, с тех пор преследует Голливуд, как призрак: Голливуд пытается как симулировать это состояние (задача, которую убедительно выполнить не могут даже сами Коппола и Скорсезе), так и изгнать его дух (лучше всего, подменив его посредственным блокбастером)».
Таким образом, фильм «Сияние» важен для Фишера тем же, чем и британская пост-панк сцена, группа The Fall и далее по списку: всё это самый настоящий «народный модернизм», это подлинно утопическая инновация, идущая прямо от масс, важный прецедент не-элитарного (или, скажем так, «перевернуто-элитарного»45) высокого искусства. Постмодернистскую катастрофу этой утопии народного модернизма и оплакивает Фишер в «Призраках моей жизни»: капиталистический реализм, этот призрак из прошлого, гонится за Утопией с пожарным топором по горящему «Оверлуку» под жуткую музыку The Caretaker… «Можно вести себя так, будто мы переживаем все это впервые, будто будущее у нас еще впереди. Печаль перестает быть чем-то, что мы чувствуем, и вместо этого проявляется непосредственно в текущем положении вещей; мы, как Джек в Золотом зале отеля “Оверлук”, танцуем под призрачные песни, убеждая себя, что музыка давно минувших дней — на самом деле музыка сегодняшнего дня»46.
♫ The Caretaker — Selected Memories From The Haunted Ballroom ♫
7. Hex Enduction Hour

Эссе Фишера «Хонтология “Сияния”» заканчивается многозначительной лексической справкой «Незамеченное»: «Overlook (англ.) гл. 1) обозревать; смотреть сверху (на что‑л.); 2) не заметить, не придать значения; пропустить»47. Что не замечено в модернистском эпосе о Торренсах и зловещем отеле «Оверлук»? Если с первым значением слова всё ясно, и сам отель представляет собой замкнутое и безвыходное «обозрение» прошлого, то, в противоположность этому, стоит предположить: гипнотически вглядываясь в прошлое из отеля «Оверлук», мы — Джек Торренс уж точно — почему-то не замечаем, как через данное прошлое сквозит наше возможное будущее.
Попытка оглядываясь назад увидеть реальные перспективы и, в конечном итоге, нежелание уступать натиску тотальной ретромании (Фишер: «Я <…> говорю о меланхолии, суть которой состоит не в отказе от желания, а в нежелании сдаваться»48) — еще один лейтмотив культурологических экскурсов Фишера и Рейнольдса. Последний напишет: «Я далеко не одинок в своей тоске по будущему, которое так и не наступило. Разочарование было всеобщим и долгое время нарастало, набрав чудовищную скорость в конце девяностых, перед рубежом нового тысячелетия. Эта очень своеобразная эмоция, которую трудно утолить, — ностальгия по будущему, “неостальгия”…»49 — и тут же добавит, вторя своему коллеге (которому через две страницы выразит отдельный респект): «Я всё еще верю, что будущее наступит»50.
Есть, значит, какой-то неочевидный освободительный потенциал в том, чтобы так напряженно заглядывать в прошлое: можно во всяком случае попытаться не каменеть перед его встречным взглядом, как перед Горгоной, но, слегка изменив точку зрения, разглядеть в нем именно то, чего твоей неостальгии так не хватало. И в этом смысле Фишер и Рейнольдс продолжают начатое Жаком Деррида, который указывал, что «будущее может быть лишь у призраков»51, что «по существу, призрак — это будущее, он всегда грядет, он представляет себя как нечто, что может прийти или возвратиться…»52 Фишер в начале «Призраков моей жизни» проговаривает ту же идею о призраках, раскрывая их двойственную структуру: «…мы можем предварительно наметить два основных направления хонтологии. Первое относится к тому, чего (фактически) уже нет, но что продолжает иметь силу в качестве виртуальности (травматическая компульсия, фатальная тяга к повторению). Во втором хонтология имеет дело с тем, что (фактически) еще не случилось, но что уже имеет силу в виртуальном (сила притяжения, ожидание, формирующее текущее поведение)»53. Двойственность призраков, которыми все мы по сей день одержимы, дает нам понять: то, что было, и то, чего сейчас нет, может быть в будущем. Поэтому-то проект популярного модернизма, его личная хонтологическая идея-фикс, представляется Фишеру незавершенным. «Преследовать нас, — пишет он, — должен не призрак переставшей существовать социал-демократии, а так и не начавшие существовать варианты будущего, которые популярный модернизм заставил нас ожидать, но так и не материализовавшиеся»54. Именно эти «призраки утраченного будущего», по мысли Фишера, только и способны дать бой повсеместному капиталистическому реализму.
Так понятая, хонтология приводит нас к необходимости переизобретения — или, скорее, «перенахождения» ее в непроизвольной памяти обретенного времени — старого-доброго утопизма, противостоящего унылой ретротопии (термин Зигмунта Баумана) сегодняшнего — совершенно безвременного — дня. Известно, что, несмотря на депрессию, у Марка Фишера были и оптимистические периоды. Как раз такой период имел место незадолго до его смерти, когда Фишера увлекла идея «кислотного коммунизма», отмеченного в историко-философской перспективе возвращением к идеям Герберта Маркузе. Вспомним: утопия по Маркузе всегда вырастает и развивается из экспериментального творчества, это художественно-творческая утопия, очень схожая с фишеровским народным модернизмом. Конечно, и то и другое сейчас может выглядеть довольно наивно, но не стоит забывать, что это всеядный капиталистический реализм заранее нам объяснил, что считать наивным, а что нет. Может быть, доля наивности не повредит в том случае, когда возникает необходимость поставить под вопрос саму машинерию капиталистического реализма? И в этом смысле творческая утопия Маркузе и народный модернизм Фишера — не самые плохие варианты быть продуктивно-наивными, наряду, скажем, с фукольдианским переоткрытием тела или с делёзианским прочтением Ницше и Спинозы.
Если попробовать выписать «формулу» Фишера, то можно остановиться на следующем варианте: «может быть, на самом деле всё обстоит прямо противоположным образом». Это концептуальное переворачивание — казалось бы А, но может по факту как раз и не‑А — с трудом отделимо у Фишера от его излюбленной области поп-культуры, ведь именно поп-культура сегодня транслирует ностальгию в таких масштабах, которые и не снились какой-либо политике. С точки зрения поп-культуры — не только музыки, но и кино, и даже литературы — мы живем где-то в позавчера, которое, разумеется, невозможно, что вызывает фрустрацию и страдания. Поп-культурная ностальгия бессмысленно, как исцарапанная пластинка, крутится вокруг этого невозможного. Здесь и дает о себе знать фишеровское «может быть, на самом деле всё обстоит прямо противоположным образом»: может быть, невозможное поп-культуры — это фиктивное, сконструированное невозможное, тогда как живой импульс современной ностальгии отсылает к возможному в сердце предполагаемого невозможного?.. Может быть, наше стремление в прошлое напоминает нам о реальных возможностях, когда-то не реализованных, но всё еще открытых к реализации в будущем?.. Если, конечно, это будущее будет подготовлено нашей критической работой в настоящем — работой, озабоченной необходимым различением между бесплодной и плодотворной ностальгией. Можно сказать, что плодотворная ностальгия — это мечта Марка Фишера, нагляднее всего выписанная им именно в «Призраках моей жизни», тогда как свой «Капиталистический реализм» он заканчивает на такой ноте: «Долгую темную ночь конца истории надо понять как удивительный шанс. Сама гнетущая навязчивость капиталистического реализма означает, что даже проблески альтернативных политических и экономических возможностей могут произвести неожиданно сильное воздействие. Ничтожное событие способно проделать дыру в серой ширме реакции, которой отмечены горизонты возможного при капиталистическом реализме. В ситуации, в которой ничего не может произойти, внезапно снова возможным становится всё, что угодно»55.
Пожалуй, именно «вера в будущее» и переоткрытие возможного — главные выводы Фишера/Рейнольдса в их параллельных хонтологических экскурсах. Чтобы понять, что монолит капиталистического реализма — это не предел и не конец, им потребовалось, каждому на свой лад, провести кропотливый хонто-анализ современной им поп-культуры, ведь поп-культура есть самое чистое выражение Капитала и именно поп-культура сегодня оказывается дальше от реализма, чем когда-либо. Хватаясь за это кричащее противоречие, Фишер и Рейнольдс увидели — и показали, — что реализм современности не так уж реален, что реализм — это своего рода фантастика… но ведь тогда и фантастика может стать по-настоящему реальной! Может быть, призраки будущего скрыты как раз в том, что сегодня нам всё еще кажется фантастическим и наивным. Это теоретическое переворачивание учит нас пересматривать то, что было просмотрено, overlooked: до того, как стать ностальгической, культура была футуристичной; до того, как стать пост-модернистской, культура была модернистской; перед тем, как превратиться в галимый самоповтор, кино и музыка были новаторскими и вдохновляющими; еще до того, как утонуть в бесконечных цитатах, художники делали что-то впервые.
Вообще-то любая цитата когда-то была оригинальной, любая цитата сначала была инновацией — а тут уж не хватит и целой армии бодрийяров, чтобы сделать бывшее не бывшим. Значит, сама отмена будущего по необходимости привязана к будущему, которое она пытается отменить. Поэтому капиталистический реализм несет в себе собственное отрицание. Он знает это, и это его тревожит: в силу самозащиты он всеми средствами заставляет нас это забыть, про-смотреть, а не пере-сматривать. На что Марк Фишер и Саймон Рейнольдс, в конечном итоге и сами возвращаясь к оригиналу Марселя Пруста, отвечают императивом: не забывайте. Они предлагают не отказаться от ностальгии, но революционизировать ее, творчески переработав ее содержание. Это Hex Enduction Hour, время снимать заклятие — сегодня искусственно утраченному времени следует противопоставить обретенное время искусства. Возможно, это и означает быть немного наивным. Но лучше уж быть наивным, чем мертвым.
♫ The Fall — There’s a Ghost in My House ♫
8. No future?

Может быть, нет ничего странного в том, что персонаж Джо Страммера из фильма, с которого мы начали настоящий текст, так не любил, когда его сравнивали с Элвисом Пресли. «Метафора рок-н-ролла как незримого наблюдателя была обыграна Джимом Джармушем в его фильме 1989 года “Таинственный поезд”, место действия в котором разворачивается в Мемфисе и одним из героев выступает призрак Элвиса. Причем не только в прямом смысле слова, когда в кадре появляется призрак Элвиса в золотом пиджаке, но и опосредованно — в образе героя Джо Страммера, стареющего британского рок-н-ролльщика, которого его подельники называли Элвисом. В отеле, в котором он и его друзья оказались после неудавшегося ограбления, каждая комната была украшена портретом Короля. Страммеровский персонаж, которого жутко раздражала его кличка, увидев это, незамедлительно возмутился: “Бог ты мой, опять он. Почему я никак не могу избавиться от этого парня! Какого черта он повсюду?”»56
Казалось бы, Джо Страммер — панк, ему по статусу положено ненавидеть ретро-культуру, символизированную в данном случае Элвисом Пресли. Но всё не так просто. Мало понять, почему лидер The Clash (точнее, его персонаж, но это не важно — Страммер тут не случайный актер) так ненавидит сравнение с Элвисом, надо также понять, почему одновременно с этим он так на Элвиса похож. Во всяком случае, мы не поймем шутку Джармуша про Страммера/Элвиса, если не заметим то, что в «Ретромании» заметил за нас Саймон Рейнольдс, — а именно ностальгическое измерение панк-рока в целом и The Clash в частности: «Тенденция к возрождению рокабилли проявилась и в <…> группе Джо Страммера, The Clash, в альбоме 1979 года “London Calling”. Пластинка начиналась с кавер-версии “Brand New Cadillac” (песня Винса Тейлора, одного из первых британских рок-н-ролльщиков), а в оформлении альбома использовались типографика и цветовая гамма как на дебютном альбоме Элвиса Пресли»57.
Хонтологическое прочтение панка, будучи одним из интереснейших мест в книге Рейнольдса, хорошо дополняет и комментирует фишеровское возвращение к Утопии. С одной стороны, что может быть революционнее панка? С другой стороны — кто бы мог подумать! — панк-рок тоже родился из ретромании, он тоже поэтому перенасыщен призраками из музыкального прошлого. «В самой основе панк-культуры заложен удивительный парадокс. Одно из самых революционных движений в истории рок-музыки зародилось из реакционного импульса. Панк противопоставил себя прогрессу. В части музыкальной эстетики он противопоставил себя шестидесятническим идеям прогрессивности и зрелости, на фундаменте которых возник прогрессив-рок и прочий сложно выстроенный звук семидесятых. Сконцентрировав все усилия на том, чтобы повернуть историческое время вспять и вернуть рок-музыку к ее подростковому максимализму, к рок-н-роллу пятидесятых и гаражному року шестидесятых, панк-движение отвергло саму философию прогресса. Движимый апокалиптической жаждой разрушения и полного краха, панк-рок рисовал в буквальном смысле безнадежную картину. Отсюда и злорадное ликование Джонни Роттена, который в своей песне “God Save the Queen” заявлял, что “будущего нет”»58.
Но если «будущего нет», зачем тогда протестовать против бесплодного настоящего и возвращаться к идеалам юности, которая по самой своей сути чревата будущим? Ответ может быть только один: если будущего и правда нет, то нет именно этого будущего — связанного с вечным настоящим капиталистического реализма; однако есть какое-то иное будущее — как возможность, однажды уже зародившаяся в прошлом. Вернуться к этому прошлому, чтобы одновременно вернуться к новому будущему — вот в чем, в полном соответствии со словарным значением слова «revolutio», смысл своеобразной «консервативной революции» панка (а почему бы также и не k‑punk’а?). «Панк <…> стал вершиной культа музыки как вневременного искусства, но то, что было задумано как реставрация, воплотилось в революцию»59, пишет Рейнольдс.
Раз так, то и в шутке про Страммера/Элвиса есть свой серьезный подтекст. Стареющий Страммер может сколько угодно иронизировать над своей схожестью с Элвисом, но именно из этой схожести тот же Джо Страммер — легенда панк-рока, чей путь начинался с каверов на классику американского рок-н-ролла60 — черпал свой юношеский революционный задор. А значит, прошлое — это не просто фетиш старческой ностальгии. Это и обещание перемен: открытие «обретенного времени», Утопии и того «другого начала», что всегда остается возможным.
♫ The Clash — Brand New Cadillac ♫
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- Рейнольдс С. Ретромания: Поп-культура в плену собственного прошлого. — М.: Белое Яблоко, 2015. С. 360.
- Там же.
- Fisher M. K‑Punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher (2004–2016). — Repeater Books, 2018. P. 365–381.
- Фишер М. Капиталистический реализм. — Ультракультура 2.0, 2010. С. 20.
- Там же. С. 18.
- Ср. у Хэзерли: «Если служащий судоремонтной верфи из пригорода Манчестера вроде Марка Э. Смита [лидера The Fall. — Д. Х.] способен сделать такое странное и бесконечно сложное модернистское произведение искусства, как альбом “Час распрозаклятия” (“Hex Enduction Hour”), то весь этот спор [об аристократизме в искусстве. — Д. Х.] бессмыслен».
- Фишер М. Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем. — М.: Новое литературное обозрение, 2021.
- «Ретромания стала доминирующей силой в нашей культуре, и это создает ощущение, что мы достигли точки невозврата. Может быть, ностальгия лишает нашу культуру возможности двигаться вперед, но возможно, эта пагубная сентиментальность является следствием того, что движение вперед прекратилось, и мы подсознательно обращаемся к более динамичным и ярким временам. Но что произойдет, когда мы исчерпаем весь запас вдохновения в прошлом?» — Рейнольдс С. Ретромания. С. 22.
- «На данном этапе нам придется ввести понятие хонтологии — термин, которым критик Марк Фишер и ваш покорный слуга начали оперировать примерно в 2005 году, чтобы охарактеризовать весьма своеобразное сообщество британских артистов, костяк которых составляли музыканты из команды Ghost Box (The Focus Group, Belbury Poly, The Advisory Circle и другие) и их единомышленники Mordant Music и Moon Wiring Club». — Там же. С. 381.
- «Призракология: логика призрачности, более мощная и всеохватная, нежели любая онтология, включающая в себя эсхатологию и телеологию как частные случаи». — Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал. — М.: Logos-altera, издательство «Ecce homo», 2006. С. 24. — Также см.: «Быть привидением не означает быть присутствующим, и призрачное наваждение следует ввести в организацию самого понятия. Всякого понятия, начиная с понятий бытия и времени. Это как раз то, что мы хотим здесь обозначить словом “призракологика”. От онтологии она отличается лишь одним — онтология изгоняет бесов. Онтология есть заклинание». — Там же. С. 226. — Надо полагать, хонтология, в противоположность так понятой онтологии, «бесов» (и призраков) не изгоняет, а, наоборот, призывает.
- Сам Деррида активно использует производные от своего термина — «призракомахия», «призракологическая карта» и так далее. Фишер указывает, что близким к хонтологии понятием для него является «модус ностальгии» Фредрика Джеймисона. Рейнольдс, в свою очередь, рифмует хонтологию (а также свою ретроманию) с ностальгией Светланы Бойм (с. 35) и мемораделией Патрика Макнелли (с. 382).
- Фишер М. Призраки моей жизни. С. 13.
- Там же. С. 14.
- Там же. С. 15.
- Там же. С. 28.
- Фишер (довольно остроумно) характеризует Japan как «роланбарт-поп» и критикует в их творчестве «очевидную игру со знаками, устроенную ради их очарования». — Там же. С. 44. — Его суровый вердикт: «Это копия подделки». — Там же. С. 43.
- Рейнольдс С. Ретромания. С. 28.
- Дренда О. Польская хонтология. Вещи и люди в годы переходного периода. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С. 8–9.
- РейнольдсС. Ретромания. С. 417.
- Shaw K. Hauntology. The Presence of the Past in Twenty-First Century English Literature. — Palgrave Macmillan, 2018. P. 2.
- Ibid. P. 12.
- ЧапскийЮ. Лекции о Прусте. — СПб.: Jaromir Hladik press, 2019. С. 48.
- Фишер М. Призраки моей жизни. С. 85.
- Рейнольдс С. Ретромания. С. 145.
- Фишер М. Призраки моей жизни. С. 106.
- Там же. С. 169.
- Там же. С. 134.
- Там же. С. 144.
- Там же. С. 155.
- Там же. С. 105. — «То, что Massive Attack обещали, но так и не смогли» — так (возможно, немного сплеча) Фишер характеризует творчество Burial. — Там же. С. 108.
- Рейнольдс С. Ретромания. С. 375.
- Там же. С. 365.
- Фишер М. Призраки моей жизни. С. 160.
- Рейнольдс С. Ретромания. С. 406.
- Фишер М. Призраки моей жизни. С. 27–28.
- Рейнольдс С. Ретромания. С. 383–384.
- Там же.
- Там же. С. 381–382.
- Там же. С. 384.
- Фишер М. Призраки моей жизни. С. 129.
- Там же. С. 130.
- Там же. С. 135.
- Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры. — М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. C. 358.
- Там же. С. 356.
- «Популярный модернизм задним числом реабилитировал элитистский проект модернизма. В то же время он однозначно утверждал, что популярной культуре не обязательно быть популистской. Некоторые модернистские приемы не только распространялись, но и коллективно перерабатывались и расширялись, а задача модернизма по созданию форм, адекватных текущему моменту, снова стала актуальной. Я хочу сказать, что, хотя в то время я этого не осознавал, но большинство моих ранних культурных ожиданий сформировал именно популярный модернизм, и тексты, собранные в “Призраках моей жизни”, посвящены моим попыткам примириться с исчезновением условий, способствовавших его существованию». — Фишер М. Призраки моей жизни. С. 29.
- Там же. C. 193.
- Там же. С. 136.
- Там же. С. 30.
- Рейнольдс С. Ретромания. С. 418.
- Там же. С. 486.
- Деррида Ж. Призраки Маркса. С. 56.
- Там же. С. 58.
- Фишер М. Призраки моей жизни. С. 25.
- Там же. С. 33–34.
- Фишер М. Капиталистический реализм. С. 141–142.
- Рейнольдс С. Ретромания. С. 360.
- Там же. С. 356.
- Там же. С. 286.
- Там же. С. 305.
- Там же. С. 297.


