Анастасия Хаустова: Начать хочется с вопроса-оговорки, без которой, как кажется, сейчас невозможны разговоры о таких вроде бы отвлеченных вещах, как искусство и/или хорроры. Как ты думаешь, ощущаешь, насколько сегодня вообще релевантно говорить об ужасе в искусстве, когда сама реальность превратилась в форменный ужас? Видишь ли ты здесь какое-то противоречие, проблему, и если да, то как для себя ее решаешь?
Руслан Поланин: Я над этим вопросом думал и до этого. Ужас и разговор о нем релевантен в том плане, что он сообщает не только про сам аффект или эмоции, но является маркером реальности. В нем происходит слом стереотипов и представлений, идеологических систем — это разговор про норму, ее границы, их расширение и пересмотр. Можно сказать, что реальность сегодня, грубо говоря, прорвалась в повседневность и принесла с собой тот самый ужас. Хорроры, например, несут эту реальность изначально, и, может быть, если бы мы больше обращали внимание на искусство именно такого плана, меньше было бы катастроф и зависания в каких-то идеологических системах, как раз засчет их пересмотра или слома. Если брать шире, то такие эстетические категории, как Ужасное, Жуткое, «темное» Возвышенное, в этом помогают. Прекрасное мне наоборот всегда казалось анестезией для мозга.
Кстати, сейчас мы с Риной Вольных и Даней Орловским записывали подкаст «Это ужас!» про хорроры, и у нас в начале стоял вопрос, нужно ли об этом говорить, и как вообще такой разговор возможен. Первая серия нашего подкаста так и называется — «Моральный выбор». В первую очередь мне нужно было для себя понять, почему я обращаюсь к ужасам. С одной стороны, это связано с самоидентичностью, с другой — с попытками обратиться к этой самой реальности вне нормативности.
Для меня в ужасах есть все, это многоуровневая, многоплановая система. Не нужно понимать их как развлекательное явление, призванное вызывать эмоции. Это я к тому, что если посмотреть какие-то базовые статьи о том, почему мы любим ужасы и почему ими интересуемся, в них по большей части будут указаны связанные с психоэмоциональной составляющей причины: взбодриться, получить адреналин, дофамин, — но это лишь один из аспектов, не самый значительный. У Ноэля Кэрролла, американского философа и теоретика кино, ужас как раз связан с отклонением от нормы. Для него фигура монстра — это что-то, что выделяется, отличается, и мы смотрим хорроры, обращаемся к ним, потому что у нас есть интерес к ненормальному, к Другому. При этом страх Кэрролл рассматривает как плату за этот интерес. В общем, ужасы помогают нам быть менее конформными, в том числе.

А.Х.: Почему этот вопрос о релевантности разговора об ужасе возникает именно сейчас: ты наверняка знаешь одиозное высказывание Штокхаузена, который назвал террористические атаки 11 сентября 2001 года выдающимся произведением искусства. Реальность словно в какой-то момент начинает не просто вторгаться в нашу жизнь, но даже вытеснять искусство: оно уже кажется нерелевантным, потому что не может ответить на те вопросы, которые нас интересуют, и те вызовы, которые ставит перед нами современность. Очень многие из художников сейчас наоборот отказываются от производства высказывания в принципе, начинают заниматься более приземленными, материальными, реальными вещами типа помощи другим, и при этом забрасывают искусство, которое сегодня начинает восприниматься как необязательная надстройка, которая ничего уже не может нам сообщить об этой самой реальности, которая явила себя как ужасная, отвратительная, будоражащая настолько, что никакое произведение с этим не сравнится.
Р.П.: Разговоры про то, что реальность вытесняет искусство, могут быть, если мы рассматриваем эти явления строго как дихотомию. Но, как я уже сказал, для меня в ужасах как раз содержится эта самая реальность, а произведение здесь скорее не надстройка, а трансмиттер. Как будто бы через искусство ты пытаешься внести ее. Дело в том, что реальность, как только являет себя, тут же начинает обрастать идеологемами, мифами. Тут для простоты можно вспомнить житейский пример с тумбочкой, когда ты спотыкаешься об нее, и потом у тебя начинается производство смыслов, почему это произошло и так далее, но реальность проявилась именно в этом спотыкании. Сейчас происходит то же самое: реальность обнаружила себя, но опять начала скрываться от прямого измышления.
Что касается производства материальных вещей, то в первый момент многие, в том числе и я, не могли ничего делать, это нормальная шоковая реакция. Я мог только бесконечно мониторить соцсети, новости, причем это настолько вошло в привычку, что я до сих пор это делаю. Мне казалось, что нужно быть в моменте, а не наоборот самоизолироваться от этого, хотя многие говорили «давайте сохраним свою психику, зачем все это читать, это же ужас». В первое время действительно казалось, что можно, нужно заниматься чем-то другим, например волонтерством. Но выход из травмы, травматических состояний заключается в переопределении себя, взращивании в себе субъектности, и здесь, видимо, можно идти разными путями. Я подумал, что нужно как-то действовать. Раз уж я и так был погружен в мониторинг информации, то решил перевести это из количественного в качественное измерение и дополнить психотерапевтическим элементом общения. Сначала инициировал у себя на работе, в научном отделе, ридинг-группу, где мы читали такие тексты, как «Неудобное прошлое» Николая Эппле, сборник статей «Деколониальность: настоящее и будущее», «Смотрим на чужие страдания» Сьюзен Сонтаг и т.д. Действительно, возникает вопрос: какое оправдание может быть у искусства перед лицом страданий? Но ответ кроется в том, какое это искусство.
Для меня через искусство происходит возвращение в реальность, попытка принять ответственность в том числе за прошлое. Моя практика и так была связана с исторической памятью и ее переработкой, а сейчас я делаю проекты про сталинские репрессии, ГУЛАГ и его наследие, пытаюсь разобраться в градациях вины и ответственности. Если мы говорим в этом контексте про так называемое «неудобное» прошлое, то ответственность как раз заключается в том, чтобы об этом всем помнить и сохранять память, а не хоронить ее. Для меня в этом есть этическое измерение. Поэтому я вернулся к искусству (не то чтобы я начал рисовать закаты, хотя и это может быть терапевтически оправдано), с целью принять часть своей ответственности, найти корни империалистической мысли, идеологий, нетерпимости к инакомыслию и Другому, ведущих к росту жуткого и ужаса в действительности. Это то, возвращаясь к вопросу о выстраивании субъектности и идентичности, что я могу делать. Кстати, первой работой после перерыва стала инсталляция «Вшкафусидящий», которая как раз обращается к теме эскапизма и принятия ответственности и говорит нам о том, что пора «вылезать из шкафа».

А.Х.: Эта позиция, которую мне хочется в том числе защитить, — когда люди постепенно начинают возвращаться к тому, чем они занимались, не отказываться от этой деятельности, потому что это ведь тоже форма высказывания, — кажется мне более чем адекватной. Единственный момент, который меня интересует в каждом конкретном случае: поменялось ли что-то принципиально? Если ты раньше занимался в основном проектами, связанными с мистикой и оккультизмом, а сейчас перешел к осмыслению наследия ГУЛАГа, почувствовал ли ты это как качественный переход? Или, если спросить шире, насколько действительно изменилось, меняется наше восприятие искусства, отношение к нему?
Р.П.: Это некий рубикон, то, что преобразует. Здесь два момента. Во-первых, это сейчас может выглядеть так, что в моем случае был уклон в мистическое и оккультное, но если открыть мой артист-стейтмент, там написано, что я в том числе занимаюсь исторической памятью через призму хоррор-эстетики. Это находило выход, в том числе политический, в различных работах, например: «Хореография памяти» (2017) про августовский путч, «Призраки прошлого» (2017) и «Советская культура» (2016) со старыми фотографиями и газетами, «Они все слышат…» (2021), посвященной прослушке дома, «Nocturne» (2020) про польских предков, попавших под политические репрессии, и т.д. и т.п. Уклон в мистическое относится к вопросу об идентичности и личной мифологии, о чем и была персональная выставка «Анхюгге: Мистика повседневного» (2020) в Пересветове: еще с детства я впитал всю эту эстетику ужаса, которая стала чем-то родным и расширила горизонт восприятия инакового. Возможно, это то, что позволило мне стать менее конформным в будущем. Получается, что наше восприятие вещей часто зависит от нашего же взгляда. Зачем нужен ужас? Он помогает увидеть эту инаковость и по-другому ее осмыслить: возможно, монстр это не Другой, а ты сам по отношению к этому Другому.

Во-вторых, изменилось ли искусство в общем? С одной стороны, кажется, что нет. Но, возможно, в чем-то акцент сместился на прошлое и память. Грубо говоря, текущие события диктуют, на чем нужно сконцентрироваться, о чем нужно говорить, призывают к принятию той самой ответственности и проработке тем, связанных с ней. Конечно, можно уйти в эскапизм и делать искусство, думая, что оно ни с чем не связано, однако любое искусство — это высказывание, которое несет определенный посыл (даже когда полагает, что его не несет). Так что искусство наверняка поменяется. В то же время, в критические времена всегда наблюдается уход в мистическое и оккультное.

А.Х.: Интересно, это чем-то объясняется? Я действительно замечаю торжество синкретизма, когда в одну кучу сваливают и православное христианство, и фэн-шуй, и таро. Ведь в случае России это давняя тенденция, вспомнить все эти «Битвы экстрасенсов», «Необъяснимо, но факт». Есть такой «Наш дед Ванга», который прогнозирует, когда и как закончится спецоперация, политические деятели на полном серьезе ссылаются на Вангу, якобы предсказавшую ее. Если говорить в более широкой перспективе, как думаешь, почему это мистическое и оккультное так популярно и почему люди заражены этим в таких масштабах?
Р.П.: Потому что это форма эскапизма. Когда вокруг тебя происходит что-то ужасное, непрогнозируемое, ты не можешь понять, куда это все повернет. Мы спрашиваем, когда все закончится, но с таким же успехом можно спросить это у спиритической доски Уиджи — собственно, об этом и была моя работа на выставке «Апок. Конец света каждый день» в Триумфе. В эпоху сложно прогнозируемых событий людям эти объяснения, обращения к авторитету кажутся приятными и ненапряжными. В то же время это попытка сделать ужас, непонятное предсказуемым. В этой иллюзии понятности как будто спокойно и приятно жить. Возможно, именно поэтому это так популярно, потому что люди любят простые объяснения того, что с ними происходит. Это попытка справиться с непредсказуемостью, контингентностью. Попытка найти основание, которое все пытаются вышибить из-под ног.

А.Х.: Ты идешь и упал — это не ты дурак, что не посмотрел и споткнулся, а это бог.
Р.П.: Точно, это побег от ответственности за свою жизнь. Даже когда происходит что-то катастрофическое, тебе удобно решить, что ты на это не влияешь, на это влияют политики, авторитеты, а если и они не влияют, значит, влияет Ванга. Видимо, очень сложно принять эту ответственность. В России у людей отсутствует понимание, что они влияют на текущие процессы, хотя не обязательно быть активистом, достаточно с чем-то соглашаться или не соглашаться, иметь мнение. Имеет значение даже то, где ты работаешь или то, что делаешь каждый день. Все связано.
А.Х.: Мне кажется, здесь как раз обнаруживается противоречивое действие всех этих практик: где-то нам обращение к мистическому, ужасу, ирреальному может даже помочь по-новому столкнуться с этой реальностью и, как ты говоришь, увидеть монстра не в другом, а в себе самом. А где-то это наоборот форма эскапизма, либо, еще хуже, заговора действительности, конспирологии, пропаганды (вспомнилась книга «Русская культура заговора» Ильи Яблокова). Получается, с одной стороны у нас есть своеобразная деполитизация ужаса, мистики, хоррора — она возможна, если мы делаем ужас удобным, используем в своих целях. В широком смысле этого слова, это одомашнивание жуткого и необъяснимого, любого. Как будто в этом одомашнивании самом по себе и заложена эта деполитизация. С другой стороны, твои проекты о репрессиях связаны еще и с ужасом. Это подводит к тому, что ужас может быть политическим в зависимости от того, какой смысл ты туда закладываешь и что с ним делаешь. Как здесь нам различать два вида ужасного, мистического и оккультного? Первый заряжен эмансипаторным потенциалом, позволяет тебе быть некомфорным, обладать широким взглядом, второй — откровенно вредит. Что принципиально помогает художнику, тебе, сопротивляться этой деполитизации, как ты отыскиваешь в этом во всем политическое?
Р.П.: Дело в том, как я говорил в самом начале, что я уже вижу в хорроре и ужасе содержащуюся связь с реальностью, нормой и ее переработкой, для меня там уже есть политическое содержание, которое легко обнаруживается и просто показывается. Например, в кинематографе всплеск политического хоррора был связан с культурными, социальными, экономическими процессами: сложно представить фильмы Джордана Пила без Трампа. В обществе происходят определенные процессы — на них реагируют выходом реального и ужаса в кино. У хоррора всегда был социальный, экономический или любой другой подтекст. Рифмование ужаса в реальности и фильмах заметил еще Стивен Кинг. Так, по его наблюдениям, фильм «Ужас Амитивилля» 1979 года про дом, населенный призраками, стал популярным в период, когда в США был очередной ипотечный кризис. Фильм этот сделал очевидным внутренний страх любого американца: ты переезжаешь в дом, а он «испорчен», не пригоден к проживанию. Но ведь ты потратил столько денег и сил, чтобы заполучить его, — это экономический страх. В 2007 году, когда выходило «Паранормальное явление», снова был ипотечный кризис, что тоже способствовало дикой популярности этого фильма. Сейчас время глобальных перемен, связанных с политическими ситуациями и ковидом. Растет тревога, прорывается реальное, все это находит выход в ужасе. Конечно, есть и деполитизированный хоррор, есть те кто использует ужас потому, что это модно.

Что касается моей практики, то зритель, который сначала видит в моих работах что-то таинственное и сверхъестественное, впоследствии опять же натыкается на эту самую реальность. Например, сейчас для проекта в кирхе Святой Анны в Санкт-Петербурге я делаю спиритические портреты репрессированных лютеран. С одной стороны, они связаны со спиритизмом, мистическим, где-то религиозным опытом, с другой — в них проявляется реальность угнетения и репрессий. В таких работах и реализуется попытка обратить эскапизм ухода от реальности.
В то же время оккультное — это один из видов другого знания, это способ сопротивления, существования в другом логосе: когда существует давление, диктат определенной идеологии, всегда есть сокрытое знание, другой язык. На этот счет есть много примеров в искусстве. Один из моих любимых — образ гадалки-предсказательницы художницы Кьяры Фумаи — есть в этом что-то ведьмовское, при этом сюда вшит феминистский посыл борьбы с патриархатом.

В России же правит доморощенный профанный оккультизм, который весь сводится к тому, чтобы получить какую-то выгоду. Люди обращаются к нему не в попытке дойти до предела мысли и там сойти с ума от прикосновения к неизвестному, а чтобы, условно, деньги были в кошельке. Но и с этим тоже можно работать. Одна из стратегий — брать оккультное и мистическое и возвращать туда реальное. Такой инверсивный процесс: ты не убегаешь от реальности в мистику, а из мистики тебя выкидывает обратно, ты словно должен об это споткнуться. Так как человеческое мышление ассоциативно и склонно к магическому, оно легче впитывает это послание через такие формы. В виде документа, факта, текста это не так действует, не хватает аффекта, ощущения магического. Тут может быть много стратегий, например, высмеивание. Однако ирония не всегда помогает. Если над этим смеяться, это задевает человека, ведь это часть его идентичности, ему хочется верить во что-то, что бы это ни было.


А.Х.: Но если вернуться к вопросу о популярности, у тебя есть такое ощущение, что все эти апокалиптические настроения и обращение к ужасу стали широко распространены только сейчас? Ты сам читал лекции про хоррор, я до сих пор для себя не могу понять до конца, почему мне стала интересна тема смерти в искусстве, я знаю много художников, которые с этим работают.
Р.П.: Кажется, что да, но есть ощущение, что смерть сама по себе все равно продолжает вытесняться. Очевидно, ее стало больше, но при этом как будто бы и эскапизма стало больше, нет проработки этого материала. В то же время сама жизнь стала менее ценной. Гуманизм отходит на второй план, что тоже связано с идеологиями, теориями заговора, империалистическими нарративами, которые ведут к девальвации индивидуальной жизни. Одно дело опосредованно говорить про смерть и аннигиляцию, а другое дело, когда она происходит в реальности. Идет определенная перестройка, связанная с ковидом, международными отношениями и внутригосударственными процессами, причем везде.
А.Х.: Получается, ужас всегда так или иначе реагирует на социально-политические изменения. Интересно, до мирового кризиса 2008 года было больше хорроров или меньше, чем сейчас?

Р.П.: Хорроров всегда очень много. Фильм ужасов — самый дешевый, но самый окупаемый жанр. То же «Паранормальное явление» окупилось в 12 890 раз. Но с середины 10‑х стало больше, так скажем, вдумчивых и аллегорических фильмов ужасов, которые обозначают как слоубернеры1, элевейтед-хоррор2. До 2007-08 годов хоррор часто был более развлекательным, сейчас он стал более социальным. При этом США, например, выдают одни виды смерти и ужаса, Скандинавия — совершенно другие. Там снимают больше фильмов про социальное благополучие, которое выливается в антигуманистический ужас, связанный, например, с деторождением, родительством или даже просто с личными границами как в фильме «Не говори никому» (2022). При этом есть очевидно политический хоррор — «Судная ночь» (2013) или «Мы» (2019), а есть неочевидно, в котором в любом случае есть это измерение. Даже благодаря кровожадным слэшерам 70‑х, как писала Кэрол Дж. Кловер, мы можем понять, что гендер — это не столько стена, сколько проницаемая мембрана. А в таких фильмах, как «Техасская резня бензопилой» (1974), можно увидеть политическое измерение истории об обедневшем пролетариате, лишившимся своей работы.

А.Х.: У меня есть еще один вопрос, связанный и с популярностью, и с темой деполитизации ужаса. После 24 февраля стало казаться, что разговоры о новомодных течениях в философии — в частности, об упоении нигилизмом у Рэя Брасье, о размытии границ между жизнью и смертью у Бена Вударда, об акселерационизме Ника Ланда — это моветон, ведь они слишком спекулятивны, фикциональны, отвлеченны. По крайней мере, вдруг оказалось совсем не до них. (Это лишний раз иллюстрирует немного абсурдный диалог под заявлением издательства Hyle Press, которое всех вышеперечисленных философов и издавало: один из комментаторов резонно спросил: «а как же жажда аннигиляции», на что издательство ответило «не в этот раз»). Мы говорим о том, что гуманизм отходит на второй план, но это подогрели в том числе все эти спекулятивные, постгуманистические, «темные теории». Расскажи, почему они тебе интересны, с одной стороны, а с другой — изменилось ли у тебя к ним отношение после 24 февраля?
Р.П.: Мне вспомнилось, как в 2017 году в летней школе ИПСИ Кети Чухров сказала, что она не готова отказаться от фрейдо-марксизма в пользу спекулятивных философий, мол, где же там субъект: как мы спасем угнетенных и спасемся сами? С одной стороны, это действительно так, с другой — странно ждать в данной ситуации от всей этой философии концептуальных решений по всем вопросам. Какие-то идеи хороши к месту. Если ты застрял в снежной буре в Арктике, тебе не поможет ни одна философия, никакие измышления про тотальную аннигиляцию или наоборот всеобщую справедливость. Грубо говоря, где-то хороша прагматика. Даже в деле преодоления ужаса преступлений прошлого, как писал Эппле, иногда лучше опираться не на абстрактные идеи торжества справедливости, но на прагматичные инструменты, например, репарации. К тому же «темные теории» — это зонтичный термин, который объединяет философии совершенно разных людей. Некоторые из них — пессимисты, их философская мысль сама себя подрывает, как выразился бы Юджин Такер. Если рассматривать пессимистическую философию исторически с гендерно-обусловленной точки зрения, как поражение большой, белой, эгоцентричной мужской мысли, которая пришла к пониманию, что она не работает — это не так уж и плохо. Просто не нужно, как некоторые из этих философов, экстраполировать это поражение на все человечество.
В то же время, спекулятивный реалист, например, это тот, кто считает, что есть реальность вне сознания, и он хотел бы обратиться к этой реальности. А реальность, как мы уже поняли, связана с ужасом. Так что мне все еще интересны Квентин Мейясу и Юджин Такер. У последнего мне нравится идея о том, что столкновение с реальностью и вызывает ужас, сверхъестественный, лавкрафтианский. Мейясу просто про доступ к реальности. И он, кстати, материалист. Что до других, то, например, в проекте Бена Вударда была попытка вернуть материальное биологическое основание в мышление — тоже нельзя сказать, что это что-то дискредитирующее. Дело в том, что все это именно анти-антропоцентрично, но не антигуманистично. Как и любой инструмент — им можно гвозди забивать, а можно и по голове бить. Какие-то эманации, скажем так, были позитивные. Что плохого в анти-антропоцентризме?

А.Х.: Я вспомнила Джейн Беннет, она действительно позитивная, про политику экологии. Но не антигуманистический Ланд, который стал гуру альтрайтов в США.
Р.П.: Вот, кстати, новый материализм, или виталистический материализм в случае Джейн Беннет, себя пока не дискредитировал, особенно касаемо этики. В принципе, какие-то идеи могут быть использованы, какие-то нет. Все зависит от контекста. Если мыслить в рамках нового материализма — все это разные сборки, не нужно видеть в этом нерушимую систему, лучше видеть в этом разные элементы, которые можно вытаскивать, пересобирать, использовать. А про Ланда мне особо нечего сказать, так как я его не читал, кроме пары статей.
А.Х.: Мы поговорили о популярности хоррора и мистики, но у меня есть вопрос, возвращающий нас в область искусства. Сергей Мохов в своей книге «История смерти. Как мы боремся и принимаем» предлагал вместо вопроса «Почему тема смерти так популярна?» задать другой: «Как именно и почему именно так смерть изображается в современной массовой культуре?». Ты ответил в общих чертах на этот вопрос в связи с хоррором. А выделяешь ли ты какие-либо тенденции работы с ужасом в современном российском искусстве?

Р.П.: Мне нравится этот вопрос, он избегает тотальности, уводит от вопроса в общем к политическим измерениям и субъектности. Есть определенный круг авторов, который мне очень хотелось бы выделить, к которому я отношу и себя. Я имею в виду Мику Плутицкую, Даню Орловского, Рину Вольных, Диану Галимзянову. Я даже писал статью про них, которая пока что так и не увидела свет в силу известных нам причин. Это авторы, которые работают с ужасом в похожей парадигме, в попытках проработки прошлого, памяти и где-то, конечно же, смерти в ее призрачном воплощении. Это работа и с советским неупокоенным прошлым: оно травматично, его нужно проработать, и тогда уйдет этот призрак, который влияет на настоящее и терроризирует его. Получается, эти авторы тоже работают с идеологией. Здесь не только оболочка хоррора, здесь есть и концептуальные решения. Работы Дианы Галимзяновой связаны с феминистической повесткой. В ее фильме «Murder Girl» (2020), в котором есть тропы из типичных ужасов, переворачивается образ final girl, как и в фильме «Самая светлая тьма» (2017) пересматривается роль женщины в нуаре. У Рины Вольных мне нравилась выставка «Зверобой» (2021), совместно с Любой Саутиной: в ней советские детские книжки с советами для девочек были переработаны в сказку, которая по ходу выставки превращалась в страшную сказку, повествуя о практиках сопротивления патриархальным устоям. В начале экспозиции зрителя встречало большое вышитое панно, которое как панно из фильма «Солнцестояние» (2019) рассказывало о том, что ты увидишь, — это огромный спойлер на всю выставку, который считывает только внимательный зритель. При этом работа с эстетикой ужаса угадывалась не сразу — элементы жуткого были аккуратно вшиты, сокрыты, — ты смотришь и только потом понимаешь, что именно изображено. Довольно тонкая работа. Даня Орловский также создает работы, связанные и с жутким, и с неупокоенным советским прошлым, и с постсоветской реальностью, например, ютуб-сериал «Морок». Мика Плутицкая прорабатывает советское, для нее хорроры важны в том смысле, что их не было, но они были в реальности. Ужас выхолащивали, но он возвращался в искаженном виде. Советские фильмы настолько неестественно радостные, что они становятся жуткими. Ты можешь представить фильм ужасов, в котором ты попадаешь в приличную семью, и по ходу понимаешь, что с ними явно что-то не так.


Здесь есть все эти элементы столкновения с реальностью. Это тенденция, которая мне нравится. И не потому, что сейчас я работал с половиной из этих людей над тем же подкастом. Как раз наоборот, я с ними начал взаимодействовать именно после ознакомления с их художественной практикой.
В то же время пост-интернет, «постсовременное» или искусство агрегаторов часто использует ужас просто как элемент. Точнее, элементы, ассоциируемые с ужасом, — всякие щупальца, шипы и т.д. Словно это наследие каких-то старых и недобрых имиджбордов. Идея «постсовременного» искусства о том, что все существует в сети, и сеть придумывает и выдает тебе плавающие в ней смыслы, проблематична. Во-первых, потому что все, действительно, так или иначе существует в сети, но не только в 2.0. — с точки зрения нового материализма все есть отношения, соотношения и сеть. Поэтому если ты не вкладываешь в свою работу смыслы, эти смыслы сами туда придут. Во-вторых, если взять сеть 2.0., сетевое обучение генерируется на юзерах, а они не самые прекрасные и добрые персонажи — самообучение сети впитывает в себя и весь антигуманистический ужас. Поэтому пост-интернет, искусство агрегаторов — это все тот же отказ от ответственности по различению, ответственности за высказывание.
А.Х.: При этом на эстетическом уровне мне здесь как раз и не хватает ужаса, мне не кажется это попыткой ухватить реальность. Такое искусство не создает аффектов и эффектов через работу с той же формой или ритмикой — все эти щупальца работают только с глазом, но не вызывают страха объектов как таковых, а должны бы. Часто это просто красивые вещички или картинки с трайбалами, железяками или анимешными девушками с зубчиками, которые возвращаются в тот же интернет. Форменной работы с жутью, ощущением этого как дискомфортного здесь нет. Наоборот, такие работы очень комфортны, уютны, их можно с удовольствием купить и повесить на стенку.
Р.П.: Сколько людей готовы себе спиритические полотна репрессированных повесить на стенку?
А.Х.: А вот от них холодок по коже.

Р.П.: Можно рассмотреть искусство агрегаторов как френдли-искусство — здесь нет довлеющего смысла, если ты не понял, то ничего страшного, это открытая система. Но здесь есть и обратная сторона. Я бы не стал уповать на сетевую логику, потому что сеть впитывает в себя все на свете, в том числе порождения шовинизма, империализма. Я все время хочу отмежеваться от простого использования ужаса и хоррора как визуальных или эстетических элементов. Как известно, если ты не интересуешься политикой, она интересуется тобой. И если ее на первый взгляд в этих объектах нет, она туда придет все равно, но может так, как мы и не предполагали.

А.Х.: То есть мы имеем две, условно, тенденции. Современное искусство агрегаторов, пост-интернет искусство использует ужас и хоррор как внешний элемент. Тогда как авторы, о которых ты говорил, пытаются вскрыть их идеологические составляющие. Ты мог бы обозначить эти тенденции как-то односложно?
Р.П.: Односложно не получится, наверное. У меня был шуточный термин «Новые жуткие», потому что в проектах, о которых я говорил, прослеживается логика работы с категорией Жуткого как инструментом. Но если серьезно, то в противовес объектно-ориентированному искусству я бы сказал, что это более субъектно-ориентированное искусство. Грубо говоря, это искусство, которое связано с сообществом и обществом. Так, например, в той же работе со спиритическими полотнами художник выступает как медиум в нескольких смыслах слова — и как проводник для призрачного, и как проводник для угнетенной группы, которая проявляется, становится видимой общественности. Да, сегодня многие пытаются отмежеваться от термина «субъект» — из-за того, что он связан с иерархической структурой субъект-объектных отношений. Но у меня есть отличный пример о потере и обретении субъектности. В последнем фильме Джордана Пила «Нет» (2022) упоминается история, связанная с серией фотографий «Лошадь в движении» Эдварда Мейбриджа. Впоследствии из этих фотографий смонтировали видео — серию фотографий, которые сменяют друг друга и создают иллюзию движения лошади с наездником, некий вид протокино. В фильме Пила фигурирует съемка под номером 626 из этой серии. Парадокс этой съемки состоит в том, что известно имя лошади — Энни Джи, мы знаем имя того, под чьим взглядом это создано — Мейбриджа, и под чьим находится — собственно, наше имя. Но имя афроамериканского наездника неизвестно. История его не сохранила, а точнее, не сохранили сами люди. Он настолько был не виден обществом, что даже не удостоился быть внесенным в историю. Пил же исправляет эту ситуацию, давая ему имя и включая его в фабулу своего фильма, завязывая на этой истории сценарий.
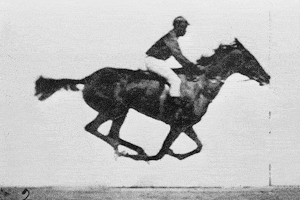
Насчет агрегаторного искусства — это мейнстрим. Если ты полистаешь инстаграм3, он сыплется на тебя, как из рога изобилия. Это искусство — словно продолжение самой соцсети, порождение экономики внимания. Я долго думал, что было бы классно, если бы кто-нибудь из художников этого пула осмыслил эту тенденцию в духе нового материализма и хоррора и назвал это все неким видом капиталистического Нечто, как из одноименного фильма Карпентера, которое нашло выход, поглощает и репродуцирует себя в этих формах. А себя бы провозгласил культистом этого явления. Но нет. Хотя Слава Нестеров, как мне кажется, приблизился к такому пониманию. В своих работах, как он сам заявляет, он исследует процесс пересборки, превращения в рамках семиокапитализма и вещественности. Он даже отсылает к фильму «Нечто» в проекте, который был представлен на выставке «В пыли этой планеты» (2022) в Музее АРТ4. Мне кажется, что использовать язык нового материализма в таких случаях было бы даже интереснее, чем объектно-ориентированной философии. Вообще, Харман у меня восторга не вызывает. Я когда первый раз прочитал его «Четвероякий объект», подумал, что это какая-то соционика от мира философии.

А.Х.: Мы много говорили про деполитизацию ужаса, теперь хочется спросить и о возможности политики как участия, общего дела в его условиях. Если представить апокалиптический сценарий, при котором Ктулху-разрушитель пробудился и собирается вот-вот поглотить нас и наши жизни (а судя по последним событиям, нет большого резона думать иначе), то, грубо говоря, возможна ли политика перед лицом Ктулху и если да, что это могло бы быть?
Р.П.: Если имеется в виду, что Ктулху — это некое явление порядка Возвышенного в Берковском понимании этого слова — какая-то глобальная катастрофа, — то обычно такого рода Возвышенное ведет к параличу и дегуманизации, потере себя. Видимо, первое, что нужно сделать — вернуть себе субъектность, чтобы выйти из этого оцепенения, и уже потом возможна кооперация с другими, с теми, кто тоже смог из него выйти.
А.Х.: А кто не смог?
Р.П.: Они будут культистами и проводниками этого ужаса. Но если серьезно, как бы мы ни бежали от антропоцентризма в сторону объектности, придется все-таки осознать и сконструировать обратно субъектность. Это даже какая-то биополитика, требование осознания себя человеком — как видом, телом, границей. Это супер-сложный вопрос. Но ведь любая политика начинается с себя. Выйти из кататонического ступора. Самоорганизоваться в плане самоидентичности. Этимологически политика связана с самоорганизацией людей в полисе, лишь позже это слово обросло представлениями о реализации власти государства и суверена, откуда выкинули почему-то простого человека.

А.Х.: Наверное поэтому не зря сейчас многие говорят, что нужно самосохраниться. А не звучит ли это эгоистично?
Р.П.: Я думал об этом — для чего самосохраняться? Но это уже, наверное, другой вопрос, связанный с глобальным целеполаганием. Не самосохраняться — это как раз аннигиляция, вписывающаяся в логику тех самых философских пессимистов, которую мы уже обсудили.
Вообще, конечно, столкновение с Возвышенным — это тоже очень интересная и обширная тема для разговора, связанного со сверхъестественным ужасом и пределом мыслимого, еще одно измерение многогранной темы, которую мы обсуждаем. Что лишний раз подтверждает, что ужас не сводится к одному лишь аффекту или пресловутому развлечению.
Spectate — TG
Если вы хотите помочь SPECTATE выпускать больше текстов, поддержите нас разовым донатом:
- «Обычно такие картины сосредоточены на плавном погружении зрителя в атмосферу напряжения и беспокойства, акцентируются на тщательной проработке персонажей и поддерживают саспенс за счет постепенного стирания границ между нормой и девиацией, реальностью и фантазией, привычным и пугающим». — Соколов Д. На медленном огне: слоубернеры — какие хорроры так называют и зачем // Искусство кино, 2 февраля 2020. — Прим ред.
- Elevated horror («возвышенный ужас», еще называют артхаус-хоррором или постхоррором) смещает основной акцент фильма в сторону драматизма и психологизма, а также деконструкции жанра (режиссеры Роберт Эггерс, Ари Астер, Джордан Пил). — Прим.ред.
- Meta — запрещенная в РФ организация. — Прим. ред.


