В нераздельном опыте целого как мира и как согласия — основание знания (опыта) единства, потому мы, так сказать, на каждом шагу познаем миром, мир есть то определяющее и опережающее целое, которое, само нами никогда не схваченное, самое раннее и простое, дает нам схватывать все в отсвете своего единства — данного нам, это стоит повторить, не в сознании, а на опыте нас самих.
Владимир Бибихин
Нет никакого сомнения: пауза — это звук.
Арво Пярт
В самой вступительной аннотации к журналу Arvo Pärt написано, что его название отсылает не к конкретной личности, а к Пярту как метафоре. Но попытка понять Арво Пярта как метафору неизменно упирается в необходимость вернуться к его личности.
На мой взгляд, одной из центральных связующих ассоциаций в случае Пярта является «изгнание». Перебравшись вместе с женой и двумя небольшими чемоданами в 1980 году в Вену, Арво Пярт стал одним из многих композиторов, писателей и художников, которые были вынуждены уйти во внешнюю или внутреннюю эмиграцию под напором борьбы с официозом. Последний на дух не переносил любые проявления нового, авангардного, необычного, а также все, что не соответствует его идеологии соцреализма, которая погребла под собой не одно житие убиенных и неубиенных художников. В Советском Союзе, если ты делал что-то не так, как было прописано в партийном руководстве, приходилось умирать для этого мира.
На поверку оказалось, что этот мир — один из возможных, и мир подполья или послевоенной, кающейся Германии был светлее тюрьмы Советов. Пресловутая родина, изрыгнувшая неугодных, все время настаивала на своей тотальности, тогда как вместо мира была лишь его рамкой. Для любого изгнанника его изгнание становилось и травмой, и спасением: утратой дома и обретением чего-то большего. Зачем изгнаннику родина, когда он целый мир носит в себе?
* * *
Уильям Джон Томас Митчелл в книге «Иконология. Образ. Текст. Идеология»1 возвращается к вопросу о различении образа и текста, изображения и слова, живописи и поэзии, который, как считается, был поставлен Симонидом Кеосским, положившим начало традиции ut pictura poesis2. Приписываемая ему фраза «Живопись — это немая поэзия, а поэзия — говорящая живопись» на тысячелетие вперед озадачила таких философов, как Берк, Лессинг, Гомбрих или Гудмен, которые решали вопрос сходств и различий между поэзией и живописью, текстом и образом по-разному. В центре внимания Митчелла — риторика образности как изучение того, «что говорят об образах« и «что говорят [сами] образы». К концу анализа Митчелл смещает фокус своего внимания от образа — «средоточия особой силы» — к идеологии, а именно, к идолопоклонству и иконоборчеству (иконофилии и иконофобии). В противовес этим двум радикальным (а в пределе, по Митчеллу, либеральной и марксистской) моделям отношения к образам он предлагает «диалектический плюрализм», наилучшей иллюстрацией к которому, по его мнению, служат две модели диалога из блейковского «Бракосочетания Рая и Ада»: «первая модель утверждает структурную необходимость “противоположностей”, которые не могут примириться и от чьего противоборства зависит “прогресс” человечества: “Эти два типа людей… существовали на Земле во все времена, и им навсегда суждено оставаться врагами; те же, кто пытается их примирить, навлекают на мир наш погибель”. Вторая — модель конверсии, когда ангел становится дьяволом и соглашается прочитать Библию “в ее инфернальном, то есть дьявольском смысле”»3. Митчелл использует вторую модель преображения и примирения в качестве перспективы для исследования первой. Любая попытка понять, что такое образы, приводит к осознанию их цветущего многообразия, а также многообразия подходов, их изучающих. В то же время стратегия иконоборчества, по мнению Митчелла, требует своей собственной и постоянной самокритики. Какую бы позицию мы ни заняли, важнее самих позиций станет выход к смыслу, сокрытому за любым образом, а также разоблачение претензии на власть идеологий идолопоклонства или иконоборчества, которые сами по себе скорее прагматизируют образ, нежели пытаются заглянуть в его суть4.
Митчелл изгоняет музыку за пределы своего анализа скорее для удобства, намекая, вслед за Эмерсоном, что «самые плодотворные беседы всегда ведутся между двумя людьми, а не тремя»5. Однако в нашем случае, там, где Арво Пярт — метафора, музыка станет причиной разговора о живописи и поэзии. Взаимосвязь звука, слова и иконы/образа найдет в деятельности героев этого текста конкретное воплощение. Идея «искусств-сестер», красной нитью проходящая через их творчество, легла в основу и этого текста. Мы попытаемся поговорить о дискредитированном единстве без оглядки на психоаналитическое вытеснение или попытку скрыть собственную претензию на власть. Власть всегда в руках громких. Наши герои настолько тихие, что сегодня их практически не слышно. Их голос оглушающ там, где мы позволяем себе остановиться и вернуться к тишине.
* * *
Авторским стилем Пярта стала музыка tintinnabuli (от лат. «колокольчики»), суть которой заключается в соединении двух различных голосов (диатонического М‑голоса и тонического трезвучия Т‑голоса, «колокольчика»), образующих композиционное единство. Впервые он использовал эту технику в Für Alina (1976) и Spiegel im Spiegel (1978). В ее основе — силлабический перевод слогов в ноты, при котором каждому слогу соответствует одна нота: Пярт берет религиозный текст и кодирует его в виде чисел, а получившуюся математическую формулу транспонирует в музыку.
Центральным для Пярта становится различие двух типов со-единений: в первом, более привычном для нас случае, 1+1=2. Голоса или звуки в такой музыке весьма дифференцированы, а их партии можно расчленить и представить по отдельности. Логической и рационализаторской формуле — по сути, сумме — Пярт противопоставляет парадоксальное единство 1+1=1, иллюстрацией которого и становится tintinnabuli. Здесь два различных по структуре, громкости и силе голоса сливаются в один настолько, что их жесткое разделение разрушит сам смысл tintinnabuli: «возникает своего рода напряжение между обоими голосами, которые, с одной стороны, дополняют друг друга, а с другой — поляризируются, как в электричестве, где есть положительный и отрицательный полюса. Это как стойкое поле напряжения между динамическим и статическим полюсами, как если бы мы позволили слиться в одно целое обычно исключающим друг друга динамическому и статическому полям»6. Однако речь здесь идет о «музыке малых шагов»7, в которой различия практически незаметны, словно «другое» — это лишь обратная сторона первого. Отсюда все ассоциации с минимализмом: музыка Пярта — медленная и медитативная, на первый взгляд простая, — скрывает сложную насыщенность внутри.
Музыковед Энцо Рестаньо пишет о парадоксальной природе этой музыки: в конце ХХ века минималистичный стиль Пярта звучал очень современно, отчего завоевал большое количество поклонников. Однако источник этого стиля глубоко укоренен в прошлом, обращен к нему: «В этом заключаются сейчас мои музыкальные мысли, мои тембры, моя динамика, моя сила звука, мой словарный запас, мое дыхание. Мир также имеет волну, но она никогда не совпадает с моей. Между этими волнами должно сохраняться равновесие. Если там волна идет в одном направлении, мы здесь должны держаться другого»8. То есть свой тихий минимализм Пярт противопоставляет многоплановой сложности и скорости современного мира. Исследователь Леопольд Браунайс во «Введение в стиль tintinnabuli» пишет: «Поиск “единого” (Einen) и возможных подходов к нему, без сомнения, является центральной интенцией стиля tintinnabuli. В фундаментальной всеобщности этой интенции заключен и поиск простого основополагающего принципа работы с музыкальным материалом, и философский мотив поиска первоистока, который — создавая некое единство (Ein-heit) — лежит в основе наблюдаемого нами многообразия. Эта тема единства в стиле tintinnabuli, в свою очередь, связана с этическим и эстетическим мотивом поиска совершенства, а также — с вновь объединяющим все мотивы теологическим поиском божественного»9.
Отсюда вывод о том, что музыку Пярта нельзя отделять от слова, которое в его случае можно понять также двояко: слово как писание и слово как речь: «Слово — не совсем моя сфера, но могу вам сказать, что потенциальному содержанию слов я уделяю все больше внимания. Эти мистические слова в Евангелии от Иоанна — “В начале было Слово” — действительно являются сутью всего, потому что без этого Слова ничего не существовало бы»10. Например, в работе Credo (1968) структурирующим стал фрагмент из Евангелия, где на старозаветную сентенцию «Oculum pro oculo, dentem pro dente» («Око за око, зуб за зуб») Христос отвечает словами «Autem ego vobis dico: non esse resistendum injuriae» («А я говорю вам: не противьтесь злу»). Пярт разложил эту фразу на ноты и цифры, что нашло свое отражение в композиции. Плотная текстура додекафонной основы составлена таким образом, что насыщенная и плотная последовательность звуков имитирует здесь хаос и разрушение. Далее идут слова Иисуса «А я говорю вам…», после чего все распадается на части, словно предрекает развал Советского режима11. Премьера Credo вызвала большой скандал в политбюро Эстонии, а работники филармонии, допустившие исполнение этого произведения без разрешения Союза Композиторов, были уволены. После этого Пярт приостановил композиторскую деятельность, занялся изучением старинной музыки, а в 1970‑м — принял православное крещение.
Жена Пярта Нора настаивает, что в своем творчестве он неизменно задается одним из так называемых «вечных вопросов»: что есть человек?12 Ответ Пярта, возможно, кроется в его музыке: отсылая к «первоистоку»13, причем понятому по-христиански, он напоминает нам о том, что человек был создан по божественному образу и подобию. Однако мы должны помнить, что человек был изгнан из Рая за попытку «познания». Так и Арво Пярт был изгнан из Советского Союза за опасную, по мнению этого Союза, свободную деятельность. Будет ли в таком случае Рай являться Раем, потерянным и желанным, а Союз — местом построения этого Рая, или же изгнание — это возможность найти место, где свобода будет главной его составляющей?
* * *
«В музыке Пярта икона — это всё»14 — пишет музыковед Алекс Росс в своем коротком пассаже о музыке Советов в книге «Дальше шум. Слушая XX век». Икона или образ, слово, звук — для Пярта нет разницы, потому что они неизменно отсылают его к поиску того самого первоистока, и, если в мелодии, картине или стихотворении есть отблеск, намек на этот первоисток, в котором все находилось в пульсирующем единении, тогда это произведение будет приближать нас к «Раю» и способствовать познанию (и самопознанию).
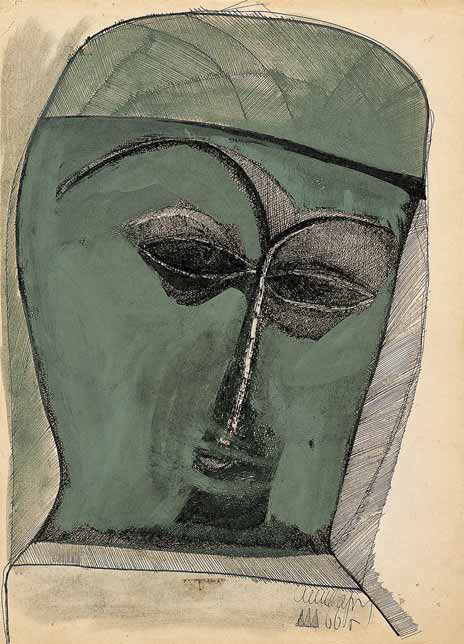
Примерно то же самое можно сказать и о Михаиле Шварцмане, художнике, который называл себя иератом, а свои картины — иературами (греч. hieratikos — культовый, священный, жреческий). Он говорил, что они, словно живые, вступают с ним в диалог, а при их создании он перестает быть просто конкретным художником и становится медиумом, жрецом, сквозь которого разговаривает само божественное. Художник здесь — посредник между Богом и зрителем, и его задача — верно передать смысл слова, выражение которого он находит в конкретном образе-иературе. Романтическая идея художника-гения, заложенная в основу такого представления об искусстве, смешивается с религиозным пониманием божественного и служения ему. Иературы наследуют идее иконописной иерархии, выстраивая мир по вертикалям, но вертикалям особенным, находящимся за пределами привычной бюрократической реальности. Поэтому для описания творчества Шварцмана не годятся как мистические спекуляции, так и рационализаторская философия. Шварцман скорее оперирует настроением и настроенностью, поэтому поэтический язык, примененный к его живописи, будет здесь наиболее уместен15.
Вдохновляясь советским авангардом (и даже личным соседством с Малевичем в Немчиновке), Шварцман наследует беспредметные формы, которые он трактует как знаки, указывающие на духовную суть различных предметов и явлений. Икона для Шварцмана — супрематична. Но если, по мнению Шварцмана, Малевич сломал пространство, то для иературы — нужно его создать, пересобрать заново. Однако пространство Шварцмана — не картина и не икона, то есть оно находится по ту сторону прямой и обратной перспективы, и, скорее, «потусторонне» и «посюсторонне» одновременно: «Иература — это монада, рожденная схождением множества знаков. Она — многопространственна. Пространство ее рождается неотвратимой жертвенной сменой знаковых метаморфоз. Я — Иерат, тот, через которого идет, пронизывая его, вселенский знакопоток. Мое дело называется иератизм (термин мой). Иератизм — это космизм. Иератизм знаменует молчаливое имя, иератический Знак, Священный Знак Духа Господня. Знак рождается экстатически, иррационально»16.
По одному только описанию можно представить, каково было отношение официальных структур к творчеству Шварцмана. Однако художник практически не распространялся об иератизме, но успешно трудился в качестве главного художника, графика и монументалиста в Специальном художественно-конструкторском бюро Министерства легкой промышленности. Первая персональная выставка его работ прошла лишь в 1994 году, уже после развала Советского Союза: любые попытки организовать до этого выставку в Союзе или за рубежом провалились.
Шварцман входил в круг так называемой «религиозно-мистической богемы», который состоял из таких художников, поэтов и композиторов, как Генрих Сапгир, Геннадий Айги, Сергей Бархин, Андрей Волконский, Софья Губайдулина, Елена Шварц, Ольга Седакова и других. Для этих людей суета и заботы мира отходили на второй план, а на первом были неподдельная увлеченность культурой и философией. «Не от мира сего» — идеальный для этого круга интеллектуалов образ-описание, в котором вновь слышится мотив изгнания и отшельничества.
Иература для Шварцмана — не только «высший знак», но и знак человека как такового: «Человек в жизни своей творит икону себя, и перед лицом смерти он оставляет иконный след себя во гробе» — характеристика, которая сближает иературу с фаюмским портретом. В то же время, иературы Шварцмана сравнивают с архитектурными сооружениями, но такое прочтение — скорее упрощение. Шварцман пишет архитектонику знака/образа/тела, выделяя сочленения и сложные взаимосвязи между элементами17. Иературы Шварцмана — это изображение Града Божьего, который находится внутри отдельно взятого человека. Первоначально предполагавшаяся иерархия парадоксально опрокидывает божественное в мир земной и даже частный. Мы снова возвращаемся к самой возможности недифференцированного, понятого как единое, у которого есть две стороны, образующие одну медаль.

Шварцман устраивал показы своих работ как священнодействие и выставлял себя жрецом в храме искусства. Одно из главных его положений: чем художник самобытней, тем корни его глубже. Отсюда ассоциация с музыкой Пярта, который был новатором, однако вдохновлялся поэтикой раннехристианских псалмов. Так и для Шварцмана связь с историей принципиальна, однако глубоко чужда традиционализму или синкретизму18. Любое сравнение ликов Шварцмана с африканскими масками ошибочно, его источник — христианское слово, которое кажется художнику, как и Пярту, вечно актуальным и новым.
Основное отличие таких опрокидываний, поиска истока и единого от тотальных традиционалистских, консервативных и утопических идеологий и их иерархий в том, что единое Пярта или Шварцмана существует без претензии на власть. Их тихое единое манифестирует наличие божественного (условно «высокого») в каждом конкретном и частном (условно «низком»), отмену законов верха и низа, а также мерцающее единство динамики и статического равновесия, что идеально иллюстрируют «Деяния Филиппа»: «Если не сделаете среди вас нижнее верхним и правое левым, не войдете в царствие мое»19. Нужно иметь в виду, что речь здесь идет даже не о преодолении разделения (которого, как в 1+1=1, словно не существует), а «перевертывании» духовных ценностей (о подбрасывании, переворачивании монеты). Такое переворачивание становится необходимым, когда речь идет о перемене устоявшегося, заведшего в тупик, взгляда, и именно оно позволяет увидеть, или, по крайней мере, приблизиться к тому, чтобы увидеть, мир со всех сторон.
* * *
Поэт Ольга Седакова в рамках разговора о «русском религиозном возрождении» писала: «Лирике преображенного или внутреннего мира (Weltennenraum) предстоит поразительный опыт Михаила Шварцмана. Его образы, которые невозможно назвать “живописью”, сообщают полноту молчащего присутствия Знака — зрительные имена невидимых вещей, окна в реальность, которые никто не видел и странным образом узнаёт… И в тот момент, когда он ее узнаёт, что-то в нем меняется»20. Мотив диалогического единства слова и образа тесно переплетается в анализе Седаковой с главным признаком такой лирики — непубликуемостью, снова — отличием от официального идеологического слова, которое не терпит голос других.
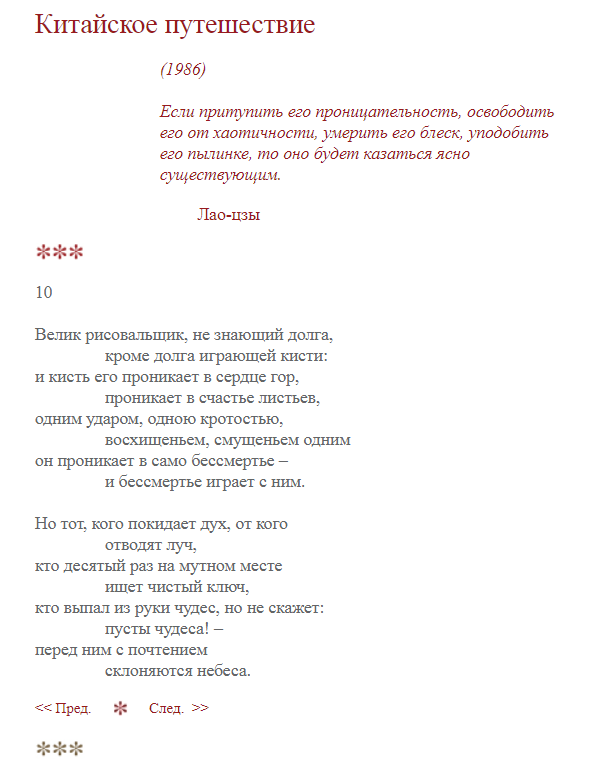
Однако что сообщает нам этот голос? В своем выступлении на конференции «Метанойя: изменение, прощение и примирение», состоявшейся в Таллинне в Центре Арво Пярта21, которое она назвала «Покаяние и творчество», Седакова говорит о покаянии как следствии метанойи, обращения, при котором то, что человеку казалось приемлемым, открывается ему как зло. Нужно попробовать ухватить эти тонкие различия и их соединения: признание зла начинается с остранения, попытки взглянуть на себя, свою жизнь и действия со стороны, и признать, узнать, в них то, что является злом. И перемениться, обратиться. Нас всегда уже двое, и речь здесь не идет о перемене этики взгляда, как если бы мы назвали остранением, метанойей предательство Иуды. Единство — это не смешение, равно как и обращение — это не превращение одного в другое. Сохранение способности к различению оказывается здесь главным спутником познания, без помощи которого будет невозможно узнать то, что ты ищешь, когда не знаешь, что именно нужно искать22.
В интервью после конференции на вопрос о совмещении гениальности и злодейства, в частности у Пушкина, она отвечает категорично: «У Пушкина речь все-таки о том, что гений может не быть святым, но не может быть злодеем. Злодей — не просто плохой человек. Есть поступки, после которых дар утрачивается. Обдуманное злодейство с человеком творческим мало совместимо. Представьте: чтобы Арво Пярт задумывал бы злодейство! Хотя какую-то оплошность он мог бы, наверное, совершить. Злодейство — это как профессия, другое занятие, другое представление о мире…»23. Когда Софью Губайдуллину спросили о том, какое самое ужасное зло она совершила в своей жизни, она с легкостью (потому что не забывает собственного зла) вспомнила историю о том, как однажды, потому что тоже хотела играть, оттолкнула свою сестру от пианино так, что та упала и расплакалась24.
Художник, поэт или музыкант в мире Седаковой — это человек, который должен совершать постоянную метанойю, попытку обращения, сдвига своего взгляда на вещи, которые забыты, вытеснены или выдаются не за то, чем являются. Там, говорит Седакова, где мы видим руины, разлад, зло, там художник может не воспевать их или повторять, а сообщить правду о мире со-единенном, который не нужно строить: он всегда уже есть, просто скрыт и нам его нужно вспомнить25. Примерно то же самое можно услышать у Пярта: «Я размышлял потом об этом несколько парадоксальном факте и понял, что мир новой музыки нес в себе зародыш конфликта. Хотите теперь знать, почему я отошел от этой музыки? Я сделал это потому, что для меня к тому времени эти конфликты утратили свою силу, а тем самым и значение. Можно сказать, что я пришел к согласию с собой и Богом, и поэтому все, в том числе личные, претензии к миру отошли на второй план»26.
Конечно, этакий Новый ренессанс Бибихина27 двойственен: он обращается к прошлому, но сам по себе еще никогда не существовал. Седакова пишет: «Мы возвращаемся к заявленной в самом начале теме новизны. Парадоксальным образом ключ к этой новизне — традиционность. Даже движение контркультуры в новой лирике (концептуализм) неизмеримо реальнее связано с традицией, чем внешне классицизирующие поэты соцреализма: отрицание есть связь и это, несомненно, культурная вменяемость — в отличие от слепой эклектики, которая ничего не отрицает, ничего не развивает, и, главное, ни с чем себя не сравнивает»28. Седакова различает здесь два типа традиционности: пустую формальную традиционность соцреализма и живую укорененность в классике представителей «религиозного возрождения». Эта укорененность, хотя и определяется религиозностью, прежде всего своим истоком видит европейскую культуру, которая стала источником и Западной, и Восточной Церквей. Я намеренно опускаю здесь разговор о православии, замечу лишь, что укорененность этих людей и самого православия в древнегреческом начале европейской культуры оказывается гораздо важнее любого разговора о мракобесии современных клириков, РПЦ или варварствующих традиционалистов29.
* * *
Поэт — никто, он пуст, он резонатор, камертон мира, дребезжащий по любому поводу, когда последний пожелает быть услышанным. А желает он всегда, ненавязчиво. Так вот, поэзия — это голос мира, голос каждой единичной вещи как единственной и единой.
Ольга Седакова
Искусство, которое своей целью видит дать голос миру, идет малыми переулками. Оно неизменно оказывается изгнанным с улиц больших30. В нем постоянно предпринимаются попытки ответить на вопрос, что такое искусство, человек в искусстве и в чем та острая необходимость это искусство создавать. Ведь «вещи не случайны в том, что они есть вместо того чтобы им не быть»31.
Этот текст — скорее желание зафиксировать, сделать хотя бы немного видимым и слышимым то, что не рекламирует себя и не требует ничего взамен. Это то, что находится в вечном изгнании, но изгнано оно было в область необусловленной свободы от заботы о том, что о нем скажут. Будучи изгнанными из мнимого Рая, совершив метанойю, оно теперь целый мир носит в себе. Независимое познание здесь оказывается важнее любого идеологического патернализма. Пусть этот текст станет микроскопическим вкладом в ответ на вечный вопрос, что такое человек, и личной попыткой понять, что такое искусство.
Закончить его мне бы хотелось словами Арво Пярта, с которого все началось:
«Здесь речь идет о сугубо личном: я осознал, что моя задача заключается не в том, чтобы бороться с миром, не в том, чтобы осуждать то или это, а прежде всего в том, чтобы познать самого себя, потому что любой конфликт зарождается сначала в нас самих. Это не означает, что мир мне безразличен, но когда кто-то хочет изменить мир или сделать его лучше, то он должен начинать с себя. В этом я убежден абсолютно. Если не начать с себя, то каждый шаг в направлении внешнего мира будет не чем иным, как большой ложью и в то же время агрессией: человек склонен к неудержимому распространению скрытой в нем агрессивности. Осуществимо ли что-либо подобное — это другой вопрос, но когда исходишь из этой идеи, то все предстает в ином свете. И поэтому я отправился на поиски иных звуков. Таким образом, уже и собственный путь становится источником вдохновения: этот путь ведет уже не наружу, а внутрь, к тому внутреннему ядру, из которого все исходит. Это тот смысл, который обрело для меня любое действие: строить и не разрушать»32.
Текст был написан летом 2020 года и впервые опубликован на английском языке во втором выпуске русско-эстонского зина Arvo Pärt, инициированном Проектом Голубойцветок.
- Митчелл У. Дж. Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология. — М. Кабинетный ученый, 2017.
- Лат.: «поэзия — как живопись».
- Митчелл У. Дж. Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология. С. 236.
- «Вопрос заключается в том, каким образом можно непротиворечиво связать эти [иконоборческие] истины с тем фактом, что музеи (иногда) являются площадкой для получения подлинного эстетического опыта, а медиа (иногда) выполняют роль средства настоящей коммуникации и просвещения? Как риторика иконоборчества может послужить инструментом социальной критики, не превращаясь в риторику все усиливающегося отчуждения, которая имитирует интеллектуальный деспотизм, ею же презираемый?» — Там же. С. 232.
- Там же. С. 65.
- Нора Пярт, см.: Рестаньо Э. В диалоге с Арво Пяртом // Арво Пярт. Беседы, исследования, размышления. — К.: Дух i лiтера, 2014. С. 53.
- Браунайс Л. Введение в стиль tintinnabuli // Там же. С 139.
- Там же. С. 137.
- Там же. С. 129.
- Рестаньо Э. В диалоге с Арво Пяртом. С. 95.
- Там же. С.47–48.
- Там же. С. 102.
- См.: Там же. С. 81. — Арво Пярт: «Я всегда опирался на тексты, которые были мне особенно близки и преисполнены для меня экзистенциального значения. Это то, что уходит корнями очень глубоко и в то же время поднимает меня выше. Речь идет, по сути, о том качестве или субстанции, которая питала мир на протяжении веков. Если взять период в две тысячи лет, мы увидим, что человек мало изменился, и поэтому я придерживаюсь мнения, что священные тексты всегда очень актуальны».
- Росс А. Дальше шум. Слушая XX век. — М.: Астрель, Corpus, 2013. С. 501.
- См. лекцию Галины Серовой «Михаил Шварцман. Иература» // Третьяковская галерея, доступно по ссылке: https://youtu.be/AAJVdb_1WEE
- Там же.
- Кусков С. Иератизм Михаила Шварцмана // Персональный сайт Сергея Кускова, доступно по ссылке: http://art-critic-kuskov.com/czhvarzman.html
- См. лекцию Галины Серовой «Михаил Шварцман. Иература».
- Деяния Филиппа, 34. Апокрифы древних христиан. — М. Мысль. Научно-атеистическая библиотека, 1989, доступно по ссылке: http://lib.ru/HRISTIAN/apok2.txt
- Седакова О. Музыка глухого времени (русская лирика 70‑х годов) // Сайт Ольги Седаковой, доступно по ссылке: http://www.olgasedakova.com/Poetica/175
- Эстония, с 7 по 9 марта 2019 года, запись выступления Ольги Седаковой «Покаяние и творчество» доступна по ссылке: https://youtu.be/ybcXlIJf5Z4
- См. платоновский парадокс Менона: нельзя найти нечто, не зная, что ищешь, — но то, что известно, искать никто не станет. Реагируя на это эристическое рассуждение, Сократ предполагает, что наша душа в какой-то мере обладает нужным знанием, которое ей следует «припомнить».
- Караев Н. «Представьте: чтобы Арво Пярт задумывал злодейство!», интервью с Ольгой Седаковой // Postimees, доступно по ссылке: https://rus.postimees.ee/6545958/predstavte-chtoby-arvo-pyart-zadumyval-zlodeystvo
- Сад радости в мире печали. Документальный фильм о Софии Губайдуллиной, 2011 // Культура, доступно по ссылке: https://youtu.be/1dCZ7keuMdQ
- Седакова О. Музыка глухого времени (русская лирика 70‑х годов): «Нормальные черты творчества, восстановленные или сбереженные под завалами теории и практики официального искусства, означают попытку возрождения “человека культурного”, то есть свободного и ответственного перед лицом Смысла — противовес той антропологической модели, которая внедрялась в жизнь десятилетиями. Успешность этой попытки рассудит будущее».
- Рестаньо Э. В диалоге с Арво Пяртом. С. 42.
- Бибихин В. Новый ренессанс. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013.
- Седакова О. Музыка глухого времени (русская лирика 70‑х годов).
- Нора Пярт: «Все, что Арво говорил до сих пор, показывает, что корни его стиля находятся в западной культуре. О мнимом влиянии, которое на него оказали православные церковные песнопения, до сих пор было написано слишком много глупостей. Это влияние проявилось лишь позднее, да и то в весьма ограниченном виде». — Рестаньо Э. В диалоге с Арво Пяртом. С. 60.
- Отсылка к «Философии одного переулка» Александра Пятигорского.
- Бибихин В. Узнай себя. — СПб.: Наука, 1998. С. 340.
- Рестаньо Э. В диалоге с Арво Пяртом. С. 43.


