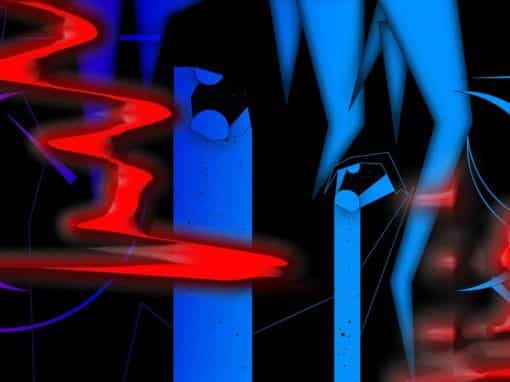Когда в середине февраля мы публиковали первую часть итогов десятилетия, трудно было предположить как будут разворачиваться события и сегодня все противоречия разом померкли на фоне глобального кризиса, развитие и последствия которого едва ли можно спрогнозировать.
Тем не менее, коллапс экономики, разворачивающийся на наших глазах, еще острее ставит вопрос об условиях труда, принципах совместного существования и основаниях, на которых стоит институциональная система. Теперь уже совершенно очевидно — мир не будет прежним, и когда шторм утихнет, нам понадобятся новые модели взаимодействия, как вне искусства, так и внутри него. Во второй, заключительной, части блица историк философии, кураторка, художник и философиня пристально всматриваются в прошедшее десятилетие и рассуждают о том, как нам со всем этим жить.
Дмитрий Хаустов
историк философии
Думаю, что «долгие» 2010‑е начались еще в нулевых, а если точнее, то в 2006 году, когда Квентин Мейясу, ключевой, на мой взгляд, теоретик этого периода, выпустил очень компактное взрывное устройство под названием «После конечности: Эссе о необходимости контингентности» (см. русский перевод 2015 года). Хотя влияние книги росло постепенно, важность ее заметили сразу — те, кому надо было заметить. Так, уже в 2007 году в Лондоне был организован коллоквиум, результатом которого стало формирование международного спекулятивно-реалистического движения. Флагманами его, помимо самого Мейясу, были философы Грэм Харман, Рэй Брасье и Йен Гамильтон Грант. Благодаря этим людям, самим по себе очень разным и с разными исследовательскими программами (об их разногласиях, проявившихся очень быстро, см. книгу Хармана «Спекулятивный реализм: Введение», вышедшую на русском языке в 2019 году), последующая декада в истории философии пронеслась под спекулятивным флагом (самое общее представление о так называемом спекулятивном повороте можно составить по книге The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism под редакцией того же Хармана, Леви Брайанта и Ника Срничека, вышедшей в издательстве re.press в 2011 году).
В соответствии с амбициозным проектом Мейясу, спекулятивный реализм (который поначалу был спекулятивным материализмом, но потом что-то пошло не так) обозначает попытку помыслить реальное вне его корреляции с субъектом — корреляции, навязываемой нам чуть ли не всей философской традицией. Собственно, главным врагом нового философского поворота Мейясу и объявляет корреляционизм, то есть догматическое требование мыслить реальное только внутри корреляции сознания-бытия. С точки зрения Мейясу, корреляционное реальное по сути уже не является реальным, то есть — существующим независимо от нас. Отсюда спекулятивным будет теоретический метод, пытающийся сконструировать убедительное и по возможности непротиворечивое представление о реальном как таковом, то есть о том, что бытийствует независимо от любого вида корреляции. Такой метод заметно меняет концептуальную конфигурацию работающей с ним теории: то, что мы мыслим, отныне становится не необходимым, но только возможным. Сильно упрощая, скажем: основным философским оператором этой теории становится «может быть».
Демонстрируя редкую ныне историко-философскую эрудицию вкупе с тончайшим логическим чутьем, Мейясу, не дав окончательного ответа, проделал выдающуюся работу по конструированию условий возможности новой философии, которая в состоянии выйти из двойного тупика — как догматизма классической философии, так и постмодернистских камланий вокруг означающего, — и, как следствие, переориентировать современную теорию на спекулятивный дискурс о возможном, о будущем. Проект, заявленный Мейясу и подхваченный многими другими теоретиками, предполагает головокружительное моделирование реального, которое абсолютно открыто в том смысле, что может быть каким угодно.
Своеобразной реакцией на спекулятивный поворот можно счесть последующее появление множества темных теорий — то есть теорий, которые склонны эксплицировать «темную сторону» разрыва с классической традицией Просвещения и спекуляции о реальном. Миксуя проект Мейясу с акторно-сетевой теорией Латура и объектно-ориентированной онтологией Хармана, во многом двигаясь в русле критики тезиса о человеческой исключительности Шеффера (см. его книгу «Конец человеческой исключительности», изданной на русском в 2010 году), такие темные теоретики, как Бен Вудард («Динамика слизи. Зарождение, мутация и ползучесть жизни», русский перевод 2016 года), Тимоти Мортон (книга Dark Ecology вышла в Columbia University Press в 2016‑м) и другие на разных предметных областях в диапазоне от глобального потепления до Г. Ф. Лавкрафта фиксируют кризис гуманистических философий и, как следствие, необходимость — опять-таки, на вполне себе спекулятивный лад — сконструировать новые формы взаимодействия субъекта и противопоставленной ему — порой в самом мрачном виде — реальности.
Более позитивные, в первую очередь политические, следствия из спекулятивного поворота извлекает так называемый левый акселерационизм — прежде всего в лице Ника Срничека и Алекса Уильямса (см. их книгу «Изобретая будущее», изданную на русском в 2019 году), которые старательно вписывают основополагающие ценности социалистического гуманизма в катастрофические условия новой «темной» реальности. Что касается правого акселерационизма, восходящего еще к 90‑м годам прошлого века и к британской студенческой самоорганизации CCRU (Cybernetic Culture Research Unit), то он за последние десять лет окончательно растворился в многочисленных блогах довольно сомнительного содержания. (Впрочем, творчество Ника Ланда, прежде всего ассоциирующегося с этим направлением, безусловно имеет самостоятельную ценность — см. его сборник «Киберготика», изданный на русском в 2019 году).
Будучи спорным проектом в силу своих условий — все-таки спекуляция, предполагая полную независимость реального от корреляции, утверждает тем самым свою собственную фатальную неполноту и неокончательность, — спекулятивный проект за эти десять лет продемонстрировал свою изобильную плодотворность и фантастическую способность меняться и перестраиваться, вбирая в себя несчетное множество тем, областей и предметов. Порой скатываясь в зубодробительную алхимию слов (что хорошо показал и одновременно проблематизировал теоретический роман — theory fiction — Резы Негарестани «Циклонопедия», переведенный на русский в 2019 году; это же видно по очень неровному «темному» выпуску журнала «Логос», номер 4/5 за тот же 2019 год), спекулятивный проект утвердил высочайшую ценность фантазии и воображения, что в области теории за последние полвека удавалось разве что Делезу.
Побратим science fiction и киберпанка, спекулятивный проект отрывается от земли и объявляет возможное — туманное, неизвестное и сомнительное — своей вотчиной. И сегодня по-прежнему можно ждать чего угодно от тех, кто выбирает само возможное своей главной теоретической, а все чаще и экзистенциальной, заботой. Спекулятивный проект, призывающий мыслить все что угодно, открывает головокружительные перспективы. Когда-то Платон высмеивал мысль о том, что у таких пустяков, как сор или волосы, могут быть свои идеи. Сегодняшние спекулятивные теоретики соревнуется в искусстве выводить масштабные онтологии из самого низменного и залежалого сора. Запретных тем больше нет, и все некогда вытесненное всем своим необъятным скопом вернулось в теоретическое поле. Мыслить можно о чем угодно, и правила существуют лишь для того, чтоб их нарушать. Философия — это новый рок-н-ролл.
Елена Ищенко
кураторка ЦСИ «Типография»
Мое наблюдение за процессом современного искусства в России и последовавшее в нем участие начались около десяти лет назад: я помню себя в зале суда, в котором зачитывают процесс по делу Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. В зале душно, из открытых окон веет безумием, — там идет крестный ход в защиту чувств верующих. Смешно, что в зал суда я пробралась по пресс-карте издания «Татьянин день» — православного журнала, работавшего при журфаке МГУ, где я тогда училась.
Самодурова и Ерофеева признали виновными, потом был приговор Pussy Riot и спад протестного движения. Помню, как во дворе Таганского суда в июле 2010 года я спорила с какой-то женщиной, пытаясь узнать, как выставка «Запретное искусство» могла оскорбить ее чувства, если она ее даже не видела. Запал сменился апатией, и впереди все только хуже — поправки к Конституции и невозможность митинга из-за пандемии коронавируса, вся жизнь при Путине, да еще и под карантином. (Сейчас кажется, что сама жизнь наносит ответный удар нашей капиталистической цивилизации, и COVID-19, конечно, будет не последним вирусом, грозящим убить человечество). Прошло десять лет — и мы ничего не смогли изменить.
Но, несмотря на этот этот базис, пронизанный пессимизмом и унынием, мне кажется, что за это десятилетие удалось сделать видимыми важные не только для современного искусства контрапункты.
Первый и особенно важный для меня сейчас — это современное искусство за пределами Москвы.
В 2008 году Марат Гельман приехал в Пермь и начал говорить о том, что необходим новый подход к распределению федеральных субсидий на культурные проекты, чтобы они концентрировались не только в Москве и Петербурге. В 2009 году при поддержке (уже бывшего. — Прим. Spectate) губернатора Пермского края Олега Чиркунова Гельману удалось открыть музей PERMM — один из немногих муниципальных музеев современного искусства в России. Это было прорывом. Впервые я оказалась в Перми в 2010, на Пермском экономическом форуме, где царила, как мне сейчас кажется, странная, нервно-приподнятая атмосфера. Тогда же, в 2010‑м, состоялась первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства.
Недавно нынешняя директорка PERMM Наиля Аллахвердиева написала, что за годы работы музей «из летающей тарелки стал зеркалом, в котором отражается территория». Мне кажется, эти слова точно выражают то, как изменилось восприятие современного искусства на местах и постепенно начинает меняться в Москве. Если десять лет назад современное искусство скорее экспортировали в регионы, чтобы предъявить там что-то скандальное и/или потрясающее и использовать как инструмент развития культурного туризма, то теперь, кажется, вектор сместился к исследованию локальной ситуации.
Этот процесс также позволил говорить о ситуации в России как ситуации постколониальной, и о Москве как метрополии в отношении других российских городов. Конечно, пока остается ощущение того, что «региональный» — это своего рода «новый черный», и теперь, скорее, региональное экспортируется в Москву, чтобы предъявить свою современность и актуальность, но хочется верить, что еще чуть-чуть и ситуация изменится, и слово «региональный» вообще исчезнет из словаря деятелей и деятельниц современного искусства.
Но кажется, что по-настоящему это произойдет, когда поменяется система распределения ресурсов, по-прежнему аккумулирующихся в Москве, весь центр которой скоро превратится в гигантский музейный квартал побольше берлинского, где помимо самих этих институций будут представлены и их региональные филиалы. Слияние ГМИИ и ГЦСИ все больше напоминает поглощение, тем более, что филиалы ГЦСИ в городах стремительно теряют свои собственные здания: совсем скоро из аварийной школы уедет и Уральский филиал, а в фабрике-кухне, для сохранения которой так много сделали самарские художники и художницы, откроется филиал Третьяковской галереи.
Второй контрапункт — это вопрос выгорания, невидимого труда и оплаты труда.
Мне кажется, мы прошли какой-то невероятный путь от ситуации, когда стыдно спросить, предполагается ли гонорар за какую-то работу, до идеи создания профсоюза и множества текстов и проектов о том, что наш труд — организаторок, координаторок, смотрительниц, многочисленных волонтерок, художниц, кураторок, авторок текстов — должен быть оплачен. Огромный вклад в развитие этой повестки вносят исследовательница Настя Дмитриевская и художница Дарья Юрийчук.
К сожалению, из-за дисбаланса в распределении ресурсов представить себе ситуацию адекватной оплаты труда в институциях за пределами Москвы и Петербурга пока очень сложно. В «Типографии», например, почти нет бюджета на проекты. Когда мы последний раз платили гонорар художнику или художнице? Только если на это удалось получить грант или привлечь дополнительное финансирование (что, понятно, случается далеко не со всеми проектами). Я часто размышляю о том, что являюсь агентом не только самоэксплуатации, но и эксплуатации, однако единственная возможность прекратить это раз и навсегда — просто закрыть «Типографию». Но кажется, что это решение точно ни к чему не приведет, поскольку сделает невозможной даже саму возможность борьбы за то, чтобы наш труд был оплачен.
Третий контрапункт — это феминистская повестка.
Я думаю, что тут все очевидно, но проиллюстрирую тезис личной историей. Примерно в 2013 году я стала редакторкой сайта aroundart.org, и для нас начал писать Егор Софронов. Он прислал текст, в котором были только феминитивы, и я исправляла их, говоря Егору, что это плохо звучит. Недавно в разговоре с ним снова возник вопрос языка и его гибкости, и Егор вспомнил тот случай.
Эта пластичность языка, которой многие сопротивляются, но которая все равно торжествует, вселяет в меня надежду, что и в остальных сферах возможны изменения.
Кирилл Савченков
художник, преподаватель
Описать прошедшее десятилетие в формате блиц не просто из-за большого количества поворотных событий, уместившихся в него. Это десятилетие стало для меня периодом становления моей художественной практики. В конце нулевых я поступил в художественную школу, в конце 2010‑х стал уже преподавателем. Комментируя этот период из 2020 года, можно выделить два процесса.
Стоит начать с наиболее физически близкого, связанного со сменой институционального энтузиазма и медленной гомогенизацией среды. Этот процесс наложился на неравномерное оформление институтов и эрозию власти в России, рост гражданской активности. Направление развития российского современного искусства, заданное импульсом неолиберальных рыночных отношений 1990–2000‑х, свернуло к специфическим корпоративным форматам в контексте гибридной автократии. Сложились структуры, представляющие собой самодостаточные организмы, склонные к замкнутым циклам культурного производства силами сотрудников и подрядчиков. В 2010‑х годах сменилась парадигма поддержки художественного процесса: среда упростилась, «титаны» заменили полицентричную, немного дикую систему с большим количеством агентов. Сама же небольшая российская художественная система по-прежнему имеет ряд базовых нерешенных проблем и утрачивает ключевые институции, как, например, Московская биеннале. Создаются две реальности художественного производства, что ставит многих участников цеха в амбивалентное положение.
Важно отметить, что, как и в других подобных случаях, дефицит того или иного института сегодня компенсируется цифровыми инструментами — так, например, «Телеграм» компенсирует отсутствие независимых СМИ в России и Иране. Сложившиеся возможности цифровых платформ стали не менее важными для художественного процесса в России и его репрезентации.
Но можно ли сказать, что институт современного искусства стал устойчивее в России за эти десять лет? Вероятно, что нет. Упрощение институциональной среды сделало ее хрупкой. Из-за того, что осталось всего несколько институций, определяющих процесс, удельная важность их судьбы возросла.
Минувшие десять лет можно охарактеризовать как десятилетие, начавшееся с энтузиазма и закончившееся разочарованием. Различные части художественной системы строились под разные версии ее неслучившегося будущего и сегодня существуют одновременно. Художественные школы, частные учреждения культуры, государственная культурная политика и инструменты ее поддержки, коммерческие галереи, самоорганизованные художественные инициативы, цифровые культурные платформы формировались для разных версий российской художественной системы и в разном социополитическом контексте. Вероятно, так и должен выглядеть нормализованный режим культурного производства в условиях плебисцитарного режима информационной автократии в начале ХХI века. Одним словом, киберпанк.
В связи с этим хочется отметить другой, немаловажный процесс 2010‑х — влияние цифровых медиа на культуру и политику, которое проявило себя через постцифровую эстетику. Появившись в конце 2000‑х — начале 2010‑х, постинтернет-эстетика сформировалась как художественная переработка ситуации становления Web 2.0 и платформенного капитализма. Заняв не последнее место в международном художественном процессе, к концу 2010‑х в ней проявились принципиальные уязвимости. Проблематика отношений фиктивного и действительного, данного и созданного, цифрового и аналогового, экономики и политики неплохо раскрывалась в череде проектов начала и середины 2010‑х. Необходимо отметить важность практик Хито Штейерль, Тревора Паглена, Клеменса фон Ведемейера, Пьера Юига и Марка Леки в этот же период. Эссе «Цифровой раскол» (2012) Клер Бишоп обозначает важные аспекты влияния цифровых технологий на искусство. Де-факто эпитафией постцифровой эстетики в ее сложившейся форме, видимо, стала Берлинская биеннале 2016 года, искусно выгравированная коллективом DIS. Спустя год случился скандал вокруг лондонской галереи LD50 (внимание привлекла ситуация вокруг программы галереи в 2016 году, в которой оказались неореакционные спикеры, антииммигранская позиция директора галереи Люсии Диего и партнерство с Бреттом Стивенсом, колумнистом националистического сайта Amerika.org). Этот скандал сделал отчетливо видимым уязвимость, которая существовала и ранее — возможность апроприации прогрессивных и модернистских техник неореакицонными силами. В художественной среде появилось любопытство к контркультурным амбивалентным знакам, отсылающим к альтернативным правым и неореакционным силам. Вместе с тем постирония и «альтернативные факты» привели к компрометации субверсии, иронии и трансгрессии как художественных средств прогрессивных позиций. Антинаучные или альтернативные, тайные или загадочные, описательные модели стали элементом правого популизма, хотя буквально пять лет назад были формой, скорее, сопротивления популизму. Настоящей контркультурой становятся неореакционеры и правые акселерационисты. Описанные тенденции сейчас проявляют себя и в российском художественном сообществе.
Алла Митрофанова
философиня, киберфеминистка
Наиболее унылым в моем представлении было десятилетие 2000‑х, когда формировался правый индивидуализм, коммерциализировалось искусство, под подозрение попали социальные связи. Культурно-политическое пространство быстро зашлифовывалось под гламур. Но это десятилетие подарило петербургскому философскому сообществу необыкновенно продуктивный «ночной» четырехлетний семинар Алексея Чернякова в математическом институте им. В.А. Стеклова по двухтомнику Бадью «Бытие и событие» и «Логики миров». Трансдисциплинарный анализ математики и философии показывал, как меняются операции мышления, не предметные области, а аксиоматика. Это и был вход в «новые онтологии», который вскоре и применил ученик Бадью Квентин Мейясу. Непоправимым было то, что почти готовый перевод не удалось закончить и опубликовать, в 2008 грянул финансовый кризис, а в страшное жаркое лето 2009 Алексей умер от инфаркта.
Следующее десятилетие началось весело и маркируется цветными фемпанковскими акциями Pussy Riot. Казалось, что эстетическое выздоровление вот-вот произойдет, но не случилось. И следующим знаковым эстетическим актом был перформанс Петра Павленского на Красной площади, о котором кто-то остроумно сказал, что Петя вошел в страшные сны полицейских и реализовал их публично.
Десятилетие разворачивалось экспоненциальным созданием гражданского культурного движения: ридинг-групп, открытых семинаров, стихийных фестивалей, сетевых переводческих волонтерских инициатив и издательств. Появились новые левые и киберфеминистки. Знаковым событием для меня стало создание в 2012 году студенткой Александрой Элбакян Sci-Hub, открытого доступа в запертые пэйволом и политической иерархией научным публикациям. Фактически Элбакян сломала возводимые иерархии и вернула открытый доступ к научному знанию для миллионов исследователей в разных странах. Лина Медведева в Минске вдруг перевела Мейясу «После конечности», и хотя локально в Белоруссии перевод оказался невостребованным, зато в русскоязычном философском сообществе он стал маркером новой парадигмы. Возникло пермское издательство HylePress с прицельной ориентацией на новый тип философии, который тут же расслоился на два больших лагеря: более академический спекулятивный реализм и более политизированный и более феминистский новый материализм.
Очень важен подъем серьезного изучения феминистской критики культуры, феминистской эпистемологии опять же в самоорганизованных группах (Ф‑письмо, инициированное Галей Рымбу, семинар Новой философской грамматики (Йожи Столет) с публикациями на Syg.ma). В Санкт-Петербурге Школа вовлеченного искусства «Что делать?» переформатировалась в открытый гражданский формат ДК Розы, где удачно создали соединение искусства и теории, философии и перформанса. Новый журнал арт-теории «К.Р.А.П.И.В.А.» формирует рефлексию этого процесса. Возник активистский театр, где неактеры-участники сочиняют и говорят вместе с экспериментирующими профессионалами и вместе формируют высказывание «своим голосом» и на «свою тему». Это театр Сони Крайнихвзглядов Акимовой и «Группы лиц по предумышленному сговору», театр Maaimanloppu Александры Абакшиной и Алины Шклярской, активистский радикальнофеминистский театр Леды Гариной.
Открываются самоорганизованные галереи и прочие многофункциональные арт-активистские места. Интернет-портал Syg.ma выработал новый формат нецензурированной публикации, но при этом удерживает актуальный контент на плаву за счет сложной перекрестной навигации. Я наблюдаю за ними несколько лет и не могу понять, как им это удается. Считаю, это ноу-хау.
Из всего этого можно сделать радикальный политико-философский вывод, что общество рассыпается на множество групп, которые работают с переформатированием художественного языка, смысла, культурного кода, эстетики. Мы понимаем сейчас, что эстетика — это тоже политика, поскольку она формирует смысл, чувствительность, солидарность. Политика теперь понимается не как администрирование где-то там и не просто лобовое столкновение противников, а производство обществом самого себя. Соответственно, художественный акт — это не создание предметов роскоши, не особое дисциплинарное поле. Это учреждение реальности, которое конструируется через установку связей, жестов, культурных кодов, изобретение новых способов коммуникации и солидарности.
Общество делает себя, конструирует, образовывая собственные ценности, имиджи, и это все происходит в так называемых убежищах. Это форма временной автономии, которая не связана с политической доминантой. В этих убежищах отрабатывается то, что может стать соединением разных сообществ. Но соединение происходит не по схеме, когда одно сообщество поглощает другое, и не по модели противостояния, а по принципу обнаружения эквивалентных связей, когда мы можем находиться в той среде, в которой хотим жить с другими, не будучи изолированы. То есть сообщество конструируется, оно хочет воображать свое будущее, и вот этот момент как раз и есть база для эквивалентной солидарности. Проблема: как спасти воображение?
Искусство — это способ конструирования, связывания, потому что без изменения культурного кода нет настройки на видение другой смысловой ситуации: я не вижу, не хочу и не могу видеть, потому что у меня нет такой линзы внимания, — и тогда, соответственно, не могу проектировать будущее. И сразу поднимаются антиутопии, «все, что ни происходит, против меня», поднимается ужас и «темное просвещение». Выход к новой рациональности будущего возможен через его непосредственное производство в искусстве, в солидарности гражданских сообществ, моделировании новых институтов знания, образования, социальной работы. У нас должна быть примерная программа культурно-политических намерений, художественных решений с умением объяснять их понятно. Например, важное политическое требование в современных условиях — это универсальный базовый доход. Но многие его боятся и не верят в способность людей работать без экономической необходимости. Значит, проблема в культурном коде и этике труда, которые нужно переописать. С этим работает, например, группа художниц «НИИЧЕГОДЕЛАТЬ» в организуемых фестивалях, выставках, текстах. Понятно, что базовый доход — это неолиберальная экономическая стратегия, но ее надо понимать не как замену потребления или отмену социального государства, а как отмену экономического рабства. Точно так же, как политическое равенство и электоральное равноправие в начале XX века казались абсолютно невозможными, так и базовый доход сейчас кажется чем-то невероятным. Но нужно понимать, что базовый доход — это способ спасти людей от тревоги за выживание, что дает возможность перезапустить политическую агентность и дать начало новому социальному воображению и конструированию. Если мы исходим из этой позиции, то понимаем, что базовый доход — это решение, запускающее резервы новой ситуации будущего. Таких вопросов много, и они требуют художественного воображения, без которого не наступит будущее.